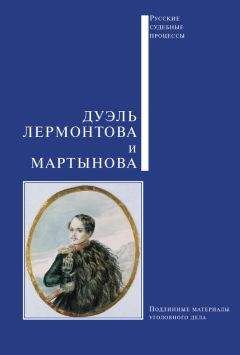сейчас слышать даже музыку. Найдите, я умоляю вас.
Жерве уходит. В театр поспешно проходит Васильчиков. Он замечает Мусину-Пушкину, останавливается в стороне и, играя тростью, следит за ней. Мусина-Пушкина сидит в тени на скамейке и, отвернувшись, прижимает платок к глазам.
Васильчиков. Однако, должно быть, весьма сомнительное счастье быть героиней поэта. И выскочки.
Васильчиков, напевая, входит в театр. Мусина-Пушкина сидит все в той же позе, потом тихо, как бы про себя, зовет.
Мусина-Пушкина. Лермонтов!
Зарница. Отдаленное ворчание грома. Тишина. Из театра долетает музыка.
Занавес
Перед занавесом
Бенкендорф и жандармский полковник с рукой на перевязи. Бенкендорф завязывает черный галстук. Лакей держит за его спиной мундир.
Полковник (читает по бумаге). «Перед своей смертью солдат Александр Одоевский, находясь в горячечном возбуждении, непрерывно говорил и звал к себе прапорщика Лермонтова, называя его то по фамилии, то попросту Мишей. Значение многих слов Одоевского в точности понять не удалось, но ежели судить по отдельным выражениям, то речь его содержала надежду на Лермонтова как на великого поэта, могущего зажечь в сердцах пламя негодования против несправедливостей государственных и духовной пустоты господствующих кругов».
Бенкендорф (причесываясь). Что у здорового на уме, то у помирающего на языке. Его величество справедливо заметил на днях, что поэзия есть вещество взрывчатое. Давно уже надо вам, батенька мой, кое-что предпринять насчет этого Лермонтова.
Полковник. Никогда не поздно, ваше высокопревосходительство.
Бенкендорф (передразнивая). Никогда не поздно! Никогда не поздно! Знаю я вашу повадку смотреть сквозь пальцы, мирволить таким вот Лермонтовым. А что получится, батенька? Человек зарвется и никакого выхода нам с вами не даст, как только поставить его самого под пулю. Знаете ведь, как на такие дела смотрит его величество.
Полковник. Знаю, ваше высокопревосходительство.
Бенкендорф. Ну, то-то! Не надо быть телятиной, когда служишь жандармом. (Надевает мундир.) Установить строжайшее наблюдение за Лермонтовым и доносить мне обо всем.
Полковник. Слушаю-с, ваше высокопревосходительство. (Хочет уйти.)
Бенкендорф. Постойте! А вы знаете, батенька, что такое эпиграмма?
Полковник. Обидные стихи, ваше превосходительство.
Бенкендорф. То-то, что обидные. Эпиграмма – это, милый мой, заступ, которым беспокойный человек сам себе роет яму. Попади она в руки обиженного, да будь этот обиженный человеком чести – и готово. Тут уж нам с вами делать нечего, а только ждать благоприятного результата. И без нас дело сделают. Понятно?
Полковник. Вполне понятно, ваше высокопревосходительство.
Бенкендорф. А то все учишь вас, учишь, а толку на ломаный грош. Ступайте. А эпиграммы Лермонтовские припасите, – этот красный товар вам всегда пригодится.
Картина четвертая
Комната Лермонтова в доме бабушки в Петербурге. Ранняя осень. Утро. Окна открыты настежь. В комнате много старинной мебели и картин. Необыкновенная чистота и вместе с тем легкий беспорядок. Раскрытые книги брошены на диван, рядом с кавказской шашкой. На письменном столе среди бумаг – недопитые стаканы с вином. Ветер сдувает со стола листки со стихами.
Лермонтов сидит на подоконнике. По комнате из угла в угол ходит Столыпин.
Лермонтов (напевает)
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила.
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Столыпин. Да, Миша. Смерть Одоевского должна, наконец, тебя образумить. Погоди, перестань петь хоть на минуту.
Лермонтов перестает петь.
Когда погиб Пушкин, ты своими стихами убил Дантеса и весь высший свет вернее, чех, пулей. (Берет кавказскую шашку, вынимает ее из ножен и рассматривает клинок.) Стихи твои острее этой стали.
Лермонтов. К чему ты все это говоришь мне, Монго?
Столыпин. Не разменивайся на борьбу со светом. Не поступай опрометчиво. Я знаю не хуже, чем ты, что Россия страшна, что ее засекли на конюшнях и в казармах, что несправедливость стала единственным законом управления, что нищета сделалась непрестанным состоянием простого народа. Пиши! Твой голос растопит слезы если не у нас, то у потомков наших. Ты веришь в будущее счастье России?
Лермонтов. К сожалению, верю, Монго.
Столыпин. Ну вот – готовь его. Готовь сердца человеческие к восприятию справедливости и благородства.
Лермонтов (напевает)
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила….
Столыпин. Перестань. Что толку, если тебе заткнут рот за насмешки, когда ты в полной силе сказать слова бессмертные. (Подходит к Лермонтову и треплет его по плечу.) Ты, Миша, – родился, должно быть, не в срок, а слишком рано.
Лермонтов (отбирает у Столыпина саблю и рассматривает ее). Я родился немного поздно, Монго, а заодно и слишком рано.
Столыпин. Объяснись. Я не понимаю.
Лермонтов. Мне бы родиться вместе с Сашей Одоевским. Бог мой, почему я был мальчишкой в грозном двадцать пятом году?.. Тогда негодование кипело в сердцах, тогда бы мне было весело жить. А слишком рано мы с тобой родились потому, что попали в безвременье. Будущее всегда чудится нам более прекрасным.
Столыпин. Подумай, Миша, и смирись. Хотя бы во имя людей, любящих тебя всем сердцем.
Лермонтов. Не говори чепуху, Монго.
Столыпин. Бабушка следит за каждым твоим движением. И, прости меня, Миша, но тебя любит прелестная женщина. Когда я вижу ее, то мне чудится, что меня обдувает теплый ветер.
Лермонтов (задумавшись, режет шашкой в воздухе листки со стихами). Замолчи, Монго. Ты ничего не знаешь. И ты очень плохой поэт.
Столыпин. Что ты делаешь?! Перестань! Что за мальчишество – уничтожать стихи.
Лермонтов (усмехаясь). Ничего, Монго. Я напишу их второй раз.
Столыпин (отбирает у Лермонтова листок и тихо читает)
За все, за все тебя благодарю я,
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей.
Стук в дверь.
Лермонтов. Войдите.
Входит Соллогуб.
Соллогуб (здоровается с Лермонтовым и Столыпиным). Простите, что я ворвался в такой ранний час, Михаил Юрьевич, но поверьте, что дело, которое привело меня к вам, – весьма интересное.
Лермонтов. Ну что вы, граф. Садитесь.
Соллогуб (отодвигает книги на диване и садится). Я пришел, как римский воин с вестью о победе Цезаря.
Столыпин. Да, у вас очень таинственный вид.
Соллогуб (смеется). Вы находите? А я всегда думал, что, подобно английскому джентльмену, я бесстрастен во всех обстоятельствах жизни.
Лермонтов. Где же ваша новость, граф,?
Соллогуб. Поручение мое – почти дипломатическое. Я очень прошу вас, Михаил Юрьевич, не отвечайте мне сгоряча, хорошо не подумав обо всех обстоятельствах дела.
Лермонтов. Вы меня заинтриговали. Лучше, чем самая ветреная дама в маскараде.
Соллогуб. Великая княгиня Мария Николаевна выразила