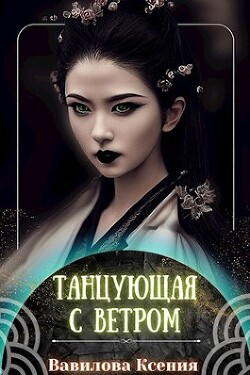плохо подчинялся язык, особенно когда пришлось говорить о себе и задумываться над словами, подбирать их. Иное и подберешь, да не вдруг выскажешь. Есть, например, одно такое слово: «Виноват…»
Я говорил бессвязно. Это было, конечно, мое самое бездарное выступление. Иногда замолкал, мучительно подыскивая слова, но все терпеливо ждали. И у меня не хватало выдержки, я опять начинал говорить. На душе становилось легче. Постепенно отходили занемевшие ноги. Я начинал чувствовать под ними твердый пол.
Когда я еще раз остановился, чтобы передохнуть, то мысленно оглянулся на оставленную за собой тропинку. На обочине вдруг увидел Зою. Она стояла там и задорно смеялась. Смешная Зойка…
Я долго молчал, раздумывая и подбирая слова. Потом опять заговорил и еще раз мысленно оглянулся на прошлое, хотя больше уже никто не призывал меня к этому.
Иван Виноградов
НЕ ЗАМЕТИЛ
Мы встречали второй военный год. Собрались у наших девушек в полковой санчасти, в уютной землянке на берегу замерзшей Невы. Уселись за стол, накрытый простыней, и увидели, что перед каждым лежит по тоненькому ломтику тяжелого и черного, как земля, блокадного хлеба, по две галеты и по нескольку шпрот из дополнительного командирского пайка нашего доктора. Водки было ровно столько, чтобы припомнить ее противный дух.
За минуту до двенадцати часов над столом поднялся мой и общий наш приятель Гриша Ковалец, командир разведчиков, бравый и видный парень. Даже блокада и голод не могли сделать его серым.
— Так что ж, друзья, поднимем? — улыбнулся он совсем по-праздничному.
Мы поднялись.
— За Новый! За лучший по сравнению со старым! — провозгласил Гриша.
Мы соединили глухо стукнувшие железные кружки.
— С Новым годом, с новым счастьем! — оживились, заговорили наши девушки, вспоминая ритуальные слова.
Все выпили по глотку. Взяли по крохотной маслянистой рыбке и откусили по одному разу от рассыпающегося в руках хлебного листика. Его хотелось проглотить одним духом. Он так и просился в рот. Наедине с собой каждый из нас не стал бы с ним церемониться ни секунды. Но тут мы как бы соревновались в выдержке и воспитанности.
Довольно быстро все захмелели — голодному человеку немного требуется. Нахлынули воспоминания о том, как уходили мы в июле из Ленинграда — широкими, как реки, колоннами; о том, как встретились затем с немцами и они разбили нас, и потекли мы на север маленькими тихими ручейками. Под Ленинградом ручейки вновь слились в реки, но сколько осталось в лесах, сколько пропало без вести, — пожалуй, и не сосчитать. И погибли хорошие люди. А впереди еще столько всего…
— Да что это вы, братцы! — укоризненно остановил Гриша наши тревожные речи. — В такой день — и такие разговоры. Лучше давайте-ка я расскажу вам одну солдатскую байку-сказку. Про любовь! — поднял он палец. — Я думаю, что будет интереснее… Как ты считаешь, Нина? — обратился он к своей соседке Нине Крыловой, самой привлекательной из наших боевых подруг.
— Конечно, — кивнула она и, кажется, немного смутилась.
— Так вот: жила-была в Ленинграде одна красивая девушка, жила без матери, со стариком отцом. Старикан у нее был важный — очень известный врач, профессор медицины. Но когда началась война, тут все стали равными, и дочка профессора тоже собралась на фронт. Старик поплакал, да ничего не поделаешь: понимал, война всех касается. Значит, стала девушка собираться… Вот только не могу вспомнить, как ее звали, — снова обратился Гриша к Нине.
— Допустим, Светланой, — подсказала Нина.
— Правильно, так ее и звали, — как будто и в самом деле вспомнил Гриша. И удивительно легко, без раздумий бросил в рот остатки своей закуски. Я проглотил слюну и подумал, что, видимо, надо быть разведчиком, чтобы так легко, почти небрежно обращаться с едой… А Гриша, дожевывая, досказывал:
— Значит, стала Светлана собираться на войну. Старик, конечно, пожурил ее — на кого, мол, оставляешь меня, а на прощание подарил коробочку с какой-то мазью. Возьми, говорит, с собой и для себя. Всю жизнь я работал над этим и вот добился: любые раны заживают от этой мази в семь дней. Я не успел наготовить ее для всех, но если что-то случится с тобой — этого вполне хватит. Но только — если с тобой. Это ведь итог всей моей жизни… Объяснил профессор, как надо пользоваться мазью, и Светлана ушла. Попала она прямо в пехоту, так что хлебнула горюшка вот такой кружкой. Потом узнала, что отец в блокаде с голоду умер, и уже считала, что и самой ей жить неинтересно. Но встретила она в это время лейтенанта, которого сильно полюбила. Война, понятно, не стала от этого легче, ко вдвоем, говорят, все же веселее… Как ты считаешь, Нина?
— Наверное, — теперь уже откровенно покраснела Гришина соседка.
— И все-таки война оставалась войной, — продолжал Гриша. — В одном бою ранило того лейтенанта. Наши отступили, а он остался на поле боя. Но Светлана сумела как-то пробраться к нему и, когда стала перевязывать парня, вспомнила о своей заветной коробочке. Смазала она раны своего лейтенанта, и выздоровел он, вышел из окружения. Еще сильнее полюбил он девушку… Но война все-таки продолжала оставаться войной…
Гриша начал закуривать, а девушки — торопить его:
— Что было дальше?
— Что было дальше? — повторил он. — Дальше было та, что в другом бою тяжело ранило Светлану. Лейтенант вынес ее из-под огня на руках, но уже мертвую… Вот что было дальше.
Гриша умолк и поочередно посмотрел на нас. Он понял, что и его рассказ получился невеселым, непраздничным. И тогда он просто предложил:
— Давайте выпьем за таких девушек!
— За всех наших девушек! — добавил я.
— Правильно, — обрадовалась Нина. — Любая девушка, я думаю, поступила бы так же, как Светлана.
Гриша недоверчиво усмехнулся, но спорить не стал — не позволял праздничный такт. Вместе со всеми он сделал второй, завершающий, глоток и, к моему удивлению, закусил, хотя я точно помнил, что у него уже давно ничего не осталось. Пока он рассказывал, он успел съесть даже галеты, которые было настрого запрещено трогать до чая. Нет, я просто завидовал ему, оттого и запомнил все так хорошо…
— А вот и чай, товарищи…
Нина поставила первую кружку перед Гришей, вторую протянула через стол мне. И тут я увидел: каким-то очень простым жестом, естественным до незаметности, Нина передвинула свои галеты на то место, где недавно, оставив небольшую вмятину на скатерти-простыне, лежали Гришины. Я понял, что и раньше дополнительная закуска у Гриши появлялась тем же путем. Понял и замер в изумлении.
Голод — сильная штука. Только в книгах и кинофильмах