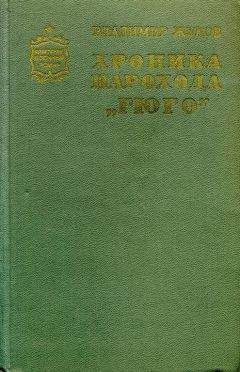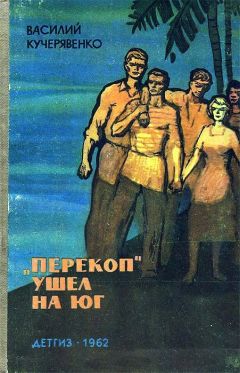— Собрались, — кричит, — выбрали наконец время! А еще судком называется, охрана труда. Сами бы пошли с ним поговорили, с иродом. У них дома, видите ли, без мыла посуду мыли...
Измайлов тем временем пришел в себя.
— Прекратить, — говорит, — рев. Кто позволил заседание нарушать?
А Клара свое:
— Ох не могу... Сам бы попробовал без мыла... От лишней коробки порошка задушится Стрельчук, ирод проклятый... И вы, профсоюз называется, вас не в судком выбирать... ох... а стирать заставить... В прачечную не допросишься... полотенца сами... ох... Сколько раз обещали — в прачечную, а все... все мы... — И на высшей своей голосовой ноте: — Решайте сейчас же, должны нам порошок выдавать или нет! Решайте, или мы вас переизбирать начнем!
«Ну, переизбирать, — подумал Огородов, — это она, конечно, загнула. А вопрос не хуже Измайлова поставила, принципиально».
— Я думаю, — решил сманеврировать Измайлов, — судовой комитет учтет заявление и разберет на следующем заседании.
А Клара:
— Нет! — И уже не плачет, смотрит непреклонно и, как показалось электрику, повелительно. — Нет! Вашего совещания год не дождешься. Сейчас решайте!
— Вторым вопросом. — Это Рублев вставил. — Выйдите и ждите.
— Нет! — кричит Клара и опять в слезы. — Как жрать... ох!.. Как жрать, они тут как тут, а... а... ой, батюшки, не могу!
Дальше уж совсем никакого порядка не стало. Рублев предлагает уступить, Измайлов из себя выходит, а Парулава снова лезет к Кларе с платком и только сильнее сырость у нее на лице разводит.
В общем, решили Кларин конфликт разобрать в первую очередь и срочно вызвать для этого боцмана, как противную, не уступающую мыльного порошка сторону. Но тут в двери заглянул старший механик, а за ним Тягин, потом радист, и стало ясно, что наступило время вечернего чая, пора кают-компанию освобождать.
Совсем как в театре: на самом интересном месте — антракт.
Измайлов приказал через час снова собраться. Да только электрик еще до его слов и до того, как желающие чая стали заглядывать в дверь, приметил, как он полагал, самое важное: Левашов-то удрал! Самый момент его ухода Огородов не засек, никто не засек, а вот то, что нет Левашова, он приметил под конец мыльной Клариной баталии.
Потом Сергей говорил, что испугался слов Измайлова, будто он, Левашов, с особыми целями проник на пароход. Испугался и ушел. Но электрик считал, что парень слово подобрал неточное. Не мог Серега испугаться, не успел еще, потому что никаких действий над ним не производили. Просто все это не умещалось в его представлении о жизни. Лежал себе на койке, читал про мореходное дело и представлял, как выйдет на мостик штурманом. А тут Рублев является, матросы, машинисты, кочегары сидят рядком на диване и не о том о сем поболтать собрались, а раз судком, раз заседание, значит, всякое их слово силу имеет. И еще речь Измайлова. Это тоже не на работе, на палубе кто чего сказанет — перед выборным органом человек выступает, и, выходит, каждая его фраза приобретает особое значение, хотя и по халатности Рублева как секретаря заседания не заносится в протокол... В такой-то вот обстановке, рассуждал электрик, Левашов вдруг себя увидел, впервые увидел и ужаснулся, до каких размеров может разрастись каждый поступок, если его перед выборным органом обсуждать и давать ему, как предлагал Измайлов, принципиальную оценку. Вроде под лупой все получается, без скидок и пропусков. Ужаснулся Сергей и уж снести дальнейшего не смог.
Правда, Огородов не сразу дошел до таких глубин мысли. Сначала по ложному следу отправился искать Сергея. Посчитал — тот обязательно должен находиться на койке, и если не реветь, подобно Кларе, то непременно лежать лицом к стене — раздумывать, каким способом расчеты с жизнью быстрее произвести.
Но электрик ошибся. Не было Левашова в каюте. И нигде по надстройке не было. Электрик и на корму к краснофлотцам сбегал и чаю напился — нет нигде. Лишь когда Рублев снова начал скликать судком, его осенило. Вышел тихонько с верхнего трапа, что возле капитанской каюты, и уверился: точно, впереди дверь в рулевую рубку открыта, и свет там горит.
Огородов приблизился. Увидел: кумач по полу расстелен, и Сергей, стоя на коленях, склонился над ним.
Делов-то оказалось! Внизу еще и второго заседания не начали, а он уже букву «т» выводил — «Да здравствует» заканчивал. И ровненько так, красиво; деревянную рейку приспособил, чтобы не дрожала рука. На электрика только раз зыркнул и больше уж головы не поднимал.
Постоял Огородов, постоял да и пошел обратно в кают-компанию — решать, сколько же порошка должен выдавать боцман Кларе, пароходной хозяйке.
ЛЕВАШОВ
На другой день Маторин разбудил меня к обеду. Он ничего не сказал. А в столовой Оцеп, кочегар, с лицом, как всегда, хранящим выражение готовящегося подвоха, осведомился, хорошо ли я спал, и скрипуче рассмеялся:
— Лозунг твой — тю-тю! Сняли.
В углу поддакнули. Измайлов, большой, черный, обвел сидящих за столами укоризненным взглядом и уткнулся в тарелку.
— Тю-тю, — повторил Оцеп. — Зря старался.
(«Ночью канадцы начали грузить еще в два трюма. Лебедки стучали то по отдельности, то сливаясь, будили утро, пока не засинело над головой, пока не погрузилось все вокруг в пепельный отсвет еще не взошедшего солнца. Боцман вышел деловой, будто и не спал. Мы привязали лестницу к переднему ограждению мостика, и я, спустившись по ней, растянул лозунг по всей ширине надстройки. Красная полоса полыхнула в лицо, вспомнилось московское, радостное, довоенное, хотелось смеяться, шагать куда-то спеша.
— Что стоишь? — сказал Стрельчук. — Давай флаги, давай же.
На подмогу пришли заспанные Олег и Никола. Мы продевали короткие палочки клевантов в крученые петли, разноцветная цепь быстро росла. На строгом языке международного свода сигналов, конечно, получалась невообразимая тарабарщина, но мы ведь заботились только о том, чтобы покрасивей приходились флаги друг к другу: желтый и синий, белый, красный, опять белый, синий, черный.
Лейтенант Зотиков, вахтенный помощник в то утро, громко засвистел в свисток, когда солнце прорвало туман в дальнем углу залива. Чайки взметнулись, закричали, их плотные грудки празднично розовели.
Мы дружно тянули фалы, пока флаги не затрепетали на ветру, растянувшись через верхушки мачт.
— Шабаш, — сказал боцман и застыл, глядя вверх, придерживая рукой кепку. — Слышь, Никола, а как это называется? — спросил он вдруг размякшим, д о б р ы м голосом.
— Флаги.
— Не знаешь, флаги расцвечивания! — сказал Стрельчук. — Знать надо!»)
В столовой молчали, только ложки негромко цокали о тарелки.
Я спросил наконец:
— Кто снял? Почему?
— Из полиции приходили, — отозвался Огородов. — Траур у них со вчерашнего дня объявлен. И лозунг, и флаги попросили убрать.
— Министр какой-то загнулся, — сказал Олег. — Военный, что ли. Будем вместе с Канадой скорбеть.
— Никогда не встречал праздник с приспущенным флагом, — все так же скрипуче рассмеялся Оцеп. — Милое дело!
Лицо Измайлова заметно багровело. Он приподнялся, напоминая развернувшуюся вдруг пружину:
— Ну и сняли, ну и траур. Что такого? Чужие законы надо уважать.
Стало опять тихо, довольно долго, и потом раздалась только одна фраза:
— И свои тоже.
Это я сказал, и лица присутствующих, как по команде, обратились ко мне. Быть может, не следовало говорить при всех такие слова Измайлову. Они ведь ничего не меняли, ровным счетом ничего. Но я вдруг представил, как по трапу поднимаются полисмены, как Олег Зарицкий, дневной вахтенный, лезет медленно, с неохотой снимать мой лозунг, как падают, сникая, тугие вереницы флагов, и чайки, уже не розовые, а бело-серые на полуденном свету, с криками вьются над мачтами.
— Свои законы тоже надо уважать, — повторил я, не зная еще, как выразить захлестнувшую меня обиду. Я ведь молчал, покорно молчал в кают-компании, когда Измайлов, тревожно обводящий сейчас столовую взглядом прокурора, требовал для меня высшей меры. — По нашим законам вы должны извиниться, — сказал я Измайлову. — Вы публично оскорбили меня!
Усы топорщились, как бы росли в размерах, потом приподнялись, выпуская наружу слова. Черные разгневанные глаза прожекторами освещали им дорогу.
— Извиниться? За что же, интересно, такая напасть?
— Вы намекали на судкоме, что я чуждый человек, а возможно, и враг. Только потому, что я просил не поручать мне писать лозунг.
— Просил! Отказывался ты, а не просил. Так и говори: от-ка-зы-вал-ся. За отказ отвечать надо!
— И за то, что вы не проверили, нужен ли лозунг, — сказал я. — Можно ведь было узнать, что траур.
— А ведь верно, — сказал Огородов. — Можно было и узнать. И незачем тогда было судком собирать. Верно Сергей говорит.