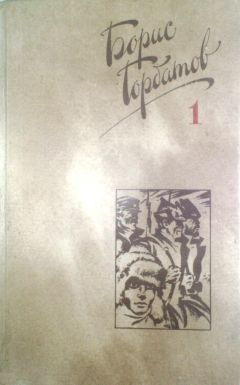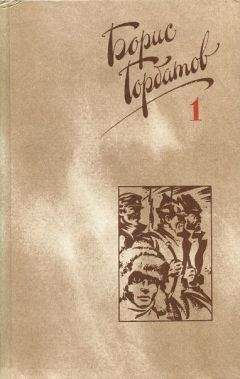Теперь Алеше кажется: враги кругом, одни враги.
«Ладно, — думает он, — ладно! — Высоко подымает голову и идет через толпу. — Ладно! А школу очистим от ковалевщины. Очистим! Очистим! Очистим!»
Он уже на улице.
— Очистим, очистим! — бормочет он и идет, громко стуча по тротуару сапогами.
Но ему тоскливо, очень тоскливо. И досадно. И потом: злость кипит в нем. И еще: обида. А он все-таки высоко задирает голову. Он все-таки идет, остро выпячивая вперед плечи.
«Сунься, враг! — выдвигает он плечо. — Сунься-ка!»
Он прошел уже центр. Окраина. Заводская улица — тихая по вечерам, со скрипучим журавлем посредине, застенчивая улица с черными силуэтами смущенно-голых акаций, с косыми ставнями на слепых окнах.
Легкий ароматный дымок плывет над улицей: поспевают самовары.
Непонятно отчего, неизвестно откуда, вливается в Алешу спокойствие. Становится ленивее и легче шаг. Вольнее дышится. Хочется почему-то смеяться. А потом хочется плакать, но не горькими слезами, а неожиданными и теплыми, как летний слепой дождь в солнечное белое утро.
— Пахнет, пахнет как! — растерянно шепчет Алеша и вдруг с удивлением замечает, что тополя действительно серебряные, а хатки голубые.
«Чепуха!» — удивленно думает он, и ясная, счастливая улыбка, — должно быть, такая, как тогда у Рябинина, — появляется на его губах. А над губами ранний пушок, неуверенный и уже неистребимый! Но Алеша не вспоминает сейчас Рябинина. О Рябинине не думается совсем. И даже о серебряных тополях недолго думает Алеша. Большие невысказанные мысли волнуют теперь его, огромные и невысказанные чувства. Вот охватить все, обнять, потрясти, подбросить на горячих ладонях, переставить с места на место. Делать! Делать! Делать что-то немедленно, сейчас, сию минуту. Скорее, скорее, скорее! Торопиться!
Гнать! Тянуться вверх, так, чтобы кости хрустели. Хрустели, хрустели, ломались кости чтоб! Пусть сломаются, если никчемные, — к черту! Пусть выпрямятся, если годные для дела! Жизнь! Она вся вот: мять руками, как глину, лепить, какую хочешь, на свой лад. Ах, как некогда! Как уходит время! Вот упала звезда. Блеснула — и нет ее. Вот эта минута ушла. Стой — ее не вернешь. Ни за что! Ну как об этом он раньше не думал! Почему раньше не было этих больших мыслей?
Голубые хатки никнут перед Алешей, серебряные тополя братски протягивают ему голые ветви, как руки.
«Давай, брат, пожмем друг другу пять, — говорят они. — Ты теперь, как и мы: большой. Давай, брат!»
Большие и малые события происходят на земле. В Поволжье засуха. Под Ямполем разоружена банда в пятьдесят сабель. Италия признала РСФСР. Алешу набрали председателем школьного старостата. В Белокриничной поставили домну на сушку.
Да, наконец, поставили домну на сушку. Всю зиму шла здесь горячая работа. Мастер Абрам Павлович носился легче стрелы и кричал:
— Еще немного, атаманы-молодцы, еще немного, ну-ка! Ну, взя-ли! Ну, ра-зом... Ай да мы!
Он легко взбегал на колошник, ползал по рыжему кожуху печи, щупал заклепки, обводил плохие мелом, писал рядом: «исправить», «зачеканить», «заклепать».
Ветер раздувал его пушистые лихие усы, мастер подкручивал их на ходу или пускал по губе свободной, падающей вниз струей. Внизу качалась земля. Люди копошились на ней. Сверху они казались приплюснутыми, словно распластанными на земле.
— Ай да мы! — кричал мастер. — Что делаем! Ай да мы!
По вечерам, когда на домне чуть стихала работа, он говорил Павлику:
— Ну, а ты иди! Иди бегай! Ты бегать должен. Тебе рабочий день кончился...
Сам он оставался на печи.
Павлик надевал чистую рубаху и отправлялся на окраину, к ветхому домику Баглия.
Смущенно стучал в окошко.
— Кто там? — спрашивал девичий голос.
— Я, — признавался он.
Ему открывали. Он входил. На пороге долго возился, счищая грязь с сапог, потом проходил в комнату. Дядя Баглий был еще на домне. Галя шила; девочки — Оксана и Настенька — возились на полу.
— Уже колошник кончают, — произносил Павлик и садился на табурет возле стола. — Дня через три кончат.
Он выкладывал Гале все заводские новости. По дороге он видел объявление, что в кооператив на днях привезут сельди.
Она слушала его, продолжая работать.
— Правда ли, что вот у нас сейчас день, а в Америке ночь? — спрашивала она вдруг.
— Говорят, правда...
— А что, можно такую машину придумать, чтоб она все сама делала: и стирала, и полы мыла, и белье чинила? Я думаю — нельзя.
— Машину всякую придумать можно, — оживлялся Павлик. — Можно такую машину придумать, чтоб была как человек. Если б я был ученым, я бы придумал. Надо ваять Цилиндр, в нем поставить мотор, чтоб все двигал. Два поршня — руки, два поршня — ноги. В общем, это можно придумать.
Потом он переходил на свою излюбленную тему: дяденька обещал вчера, что как только печь кончат, он поставит Павлика к станку.
— Слово дал...
— Абрам Павлович слову хозяин, я знаю.
— На токаря надо два года учиться. Через два года я стану подручным. Потом токарем. Потом мать сюда выпишу...
Галя молча кивала головой.
Просидев так час, он вставал, брал шапку и говорил:
— Ну, я пойду.
Галя провожала его до калитки.
— У Оксанки жар, — озабоченно говорила она. — Не захворала ли?
Когда Павлик удалялся, она кричала ему вслед:
— Ты заходи, Павлик!
Павлик брел в темноте, шлепая сапогами по грязи.
«Такую машину придумать можно, — рассуждал он. — Вот время будет, возьмусь, сделаю...»
В конце марта печь поставили на сушку. Рабочие ходили вокруг нее и сами удивлялись: как это они могли, голые и голодные, в лютые морозы, без нужных инструментов и материалов, смастерить такую красавицу?
— Что люди могут! — удивленно качал головой дядя Баглий. — Ах, люди!..
Он нежно смотрел на домну, ласково называл ее «наша печурка».
Строителей домны чествовали. В нетопленом клубе состоялось торжественное собрание. Председательствовавший на собрании секретарь партийной ячейки завода Никита Стародубцев дул на зябнущие руки и говорил о героизме слесарей и котельщиков. Павлик внимательно слушал, и ему казалось, что Стародубцев говорит не о дядьке, не о Баглии, не о нем, а о каких-то других, действительно замечательных людях. И он невольно оглядывался: где же они?
Потом прочитали список лучших работников, восстанавливавших печь. С удивлением слушал Павлик, как Стародубцев скороговоркой произнес:
— Гамаюн Павел.
— Абрам Павлович, — поправил кто-то из зала, — его уже читали...
— Нет, — засмеялся Стародубцев, — еще один Гамаюн есть. Павел Гамаюн — нагревальщик заклепок.
Все зааплодировали, а Павлик смутился и покраснел.
И тогда ему вдруг захотелось, чтоб время — назад, и чтоб лютые морозы снова, еще лютей, и чтоб ни крошки хлеба, ничего: ни горячего кипятка в кондукторском чайнике, ни инструментов, ни железа. Голыми коченеющими руками двадцать четыре часа в сутки, — сон к черту, отдых к черту, — голыми коченеющими руками, ногтями царапать раскаленное от холода железо!
«Мы все сможем! Все сможем! — хотел закричать Павлик Никите Стародубцеву, зябко кутающемуся в рыжий полушубок. — Дайте нам еще печь. Пусть разваленная она будет, как хижина на меловой горе. Дайте ее нам! Голыми руками сделаем. В лучшем виде».
Потом Стародубцев объявил, чтобы названные в списке товарищи вышли на сцену, и дядька, взяв Павлика за руку, пошел с ним через зал.
И когда Павлик шел через большой зал бывшего директорского дома, он думал только об одном: как бы спрятать от всех свои рваные сапоги. Попав на сцену, он спрятался за широкую спину мастера.
Через несколько дней после собрания Павлику дали отпуск.
— Поезжай, поезжай, — сказал ему мастер, — а приедешь, мы тебе дело найдем. Ты теперь герой.
Павлик поехал проведать мать и ребят. Полгода не видел он товарищей: какие они стали? Столько воды утекло! Столько соли съедено! Так вместительна была Павликова жизнь в Белокриничной, что ему казалось: другая жизнь была когда-то далеко-далеко...
А потом вдруг начинало кататься, что все это было только вчера. Только вчера он ехал в Белокриничную искать удачи и так же вот висел на подножке переполненного вагона-теплушки, те же тусклые степи бежали мимо, те же дивчата гуляли по перрону, с любопытством поглядывая на пассажиров.
Конечно, и Алеша и Валька сразу узнали Павлика. Конечно, и он их сразу узнал. Алеша был такой, как всегда: худой, черный, резкий. Валька такой же кудрявый и курносый.
И все-таки изменились они. В чем была перемена — Павлик не знал, но видел: стали ребята чуть-чуть другими. А он?
— Работаешь? — ласково спросил Алеша, пожимая ставшую уже шершавой рук у Павлика.
— Работаю, — тихо ответил тот и, заметив любопытство друзей, смущенно добавил: — Вот домну кончили...
Они глядели на него с уважением. Он почувствовал это. Ему захотелось тогда рассказать, как строили печь, как трещали над домной морозы, как потом чествовали всех. Хотел рассказать о дяде Баглии, о мастере, о Никите Стародубцеве и о себе тоже, но не знал, с чего начать, и пробормотал только: