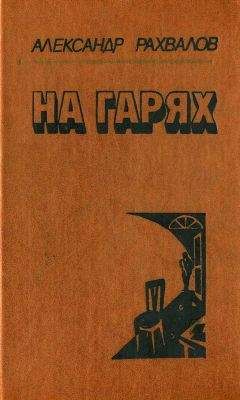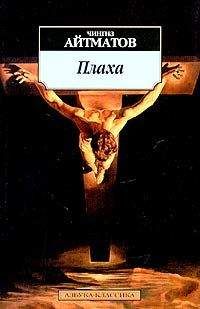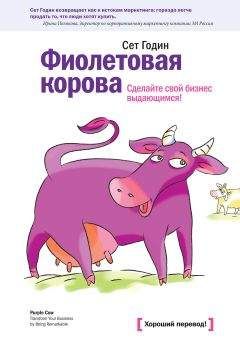Спорить не стали, выпили втроем… Клава ела. Она, если выпьет, всегда ест, потому не болеет с утра.
— У меня тоже есть брат, — проговорил Юрий Иванович. — Он у меня без штанов, зато в «Жигулях». Так и ездит. Я ему говорю: купи себе порты хорошие, а он отвечает: зачем? В кабине не видно, что я без штанов… Так и буду ездить. А если ГАИ остановит? И тут, сволочь, выкрутился, — говорил гость. — Говорит мне: не остановит ГАИ, потому что я не пью. Он не пьет, он богатеет…
— А я при чем? — спросил Тихон. — У меня есть портки…
— А у меня нет теленка, — вздохнул Юрий Иванович. — У меня есть собака Пушок… Я его очень люблю и уважаю, своего Пушка.
Хомяковатый братец грянул турецкий марш… Мужики обнялись и выпили на брудершафт, как будто клялись в вечной дружбе.
Тамара не вошла — она ворвалась в прихожую, считая, что имеет на это право: гармошка-то ее здесь.
— Пьянству бой, — прокричала она с порога, — но выпьем перед боем! Не верите мне — спросите у меня.
Она прошла к столу.
— Я выходная, — заявила мужикам. — Выпоротков связала и уложила штабелем, а сверху придавила их рыжим паханом.
В засаленной кофточке, в трико и болотных сапогах, Тамара выставила бутылку портвейна на стол.
— Тихон, я с тобой посижу. Идет? А ты, Юрий Иванович, какого хрена расшеперился тут? Дай-ка пройти молодой и интересной женщине.
Здоровая и шумная, она ни с кем не церемонилась. Прорвавшись к Тихону, плюхнулась ему на колени и с жаром впилась в губы. Тот насилу оторвался:
— Пшла ты, стерва! Я свою-то бабу не целую, еще тебя… Ну-ка свали, свали, говорю.
Тамара по-глупому хохотнула и предложила выпить. За столом притихли.
— А что вы, собственно, пялитесь на меня? Свалкой попрекаете… Да? — Тамара становилась опасной. — За вами же я убираю грязь, соскребаю с асфальта плевки… Воздух от этого чище в городе, без меня бы поросли плесенью. А? Вы, потребители, сделали по одному ребенку и давай меня учить, как жить, давай меня учить совести и уму. Да?
— Тише ты, Томка! Не ори! — попытались ее осадить.
— А свалка… Чего свалка? — недоумевала Тамара. — Свалка меня кормит и не унижает так, как унижаетесь в жизни перед всякою швалью вы! Стала бы я ходить к квартальной, чтобы на коленях перед ней стоять да вымаливать талоны: позволь отовариться на триста грамм масла! выдай мне, пожалуйста, талончик на один кэгэ мяса. Мне же положено мясо? Ждите, — передохнула она. — Я здесь, на свалке, выручу во сто раз больше, и без унижения! Ты понял, красноносый? — Тамара посмотрела почему-то на гармониста, и тот вынужден был притворно согласиться с ней:
— Верно говоришь… Но мне не нужны талоны: я почти не ем — только пью. Устраивает тебя такой ответ?
— Вполне. Давай с тобой выпьем.
Тамара сорвала зубами пробку и налила в два стакана.
— Пей, красноносый!
Они выпили с гармонистом.
— Ты, Юрка, ехидный, — заметила, почти успокоившись, Тамара. — Потому с тобой бабы не живут.
— Такие, как ты?
— И я бы не стала… — с Тамарой невозможно было сладить. — Да, я собираю на свалке всякое тряпье, я санитар общества, а не волчица. Почему я собираю рвань? — спросила она. — Да потому, что ты не станешь собирать, а для меня это — мое богатство: богатой я обязана быть, детей надо поднимать… Понял? Так вот, я привожу все домой и сортирую, чтобы потом сдать в магазин «Стимул». Там принимаю в дар за вторсырье ночные сорочки, портфели — а что делать, если больше ничего не дают? То есть я меняю дерьмо на добро. Ха-ха! Раньше этим занимались старьевщики: они ездили на телегах по дворам и скупали всякую рухлядь. Выброса не было, потому жили богаче… Помнишь?
— Помню, помню, — согласился вдруг Юрий Иванович. — Сам отдавал рваные телогрейки в обмен на шары.
— Шары! — передразнила Тамара. — Обними пьяного ежика… Но теперь старьевщиков нет — я одна работаю. По-некрасовски: слышь, отец рубит, а я отвожу… А вы мне про свалку… Да я, может, честней всех вас: вам-то наплевать на то добро, которое сжигают на свалке, хотя — домик-то с помощью свалки поставили. Так?
— Хватит тебе, Томка, — нервничала Клава. — Лучше возьми гармошку да спойте… Вот и мой соколик подпоет тебе.
Тихон вернулся к столу, но не сел рядом с Тамарой. Он «целился» из пальца в супругу и повторял;
— Пух-пух! Подвинься, рядышком подсяду.
— В кого ты целишься, — улыбнулась та. — Убьешь… Что ты без меня делать-то будешь? Садись, глупышка, — она обняла мужа и ласково потрепала его рукой по щеке.
Тамара, тронутая такой сценкой, всхлипнула:
— Вот как у вас… А мой, кабан, пьет только и никогда руки не наложит, чтоб приласкать меня. Сволочь! Алкаш! — но увидев Харитоновну, что появилась на пороге, закричала: — Входи, Харитоновна! Ты, как… оттуда на быстрых лыжах!
Искренно Харитоновне обрадовалась только хозяйка. Она встала и шагнула навстречу смутившейся старухе.
— Проходи, родная, проходи! — повторяла она, ведя гостью под руку. — У нас весело.
— Веселей некуда! — ехидничала Тамара. — Давайте плясать.
Харитоновна, не проронив ни слова, села рядом с хозяйкой и уставилась на кривляющуюся Тамару.
Гости не расходились.
Юрий Иванович как бы под аккомпанемент гармошки, сцепился с младшим из братьев. Мужики выясняли международную обстановку.
После выпивки и сытной закуски Клаву потянуло на сон. Она поднялась из-за стола и, хлопнув себя по карману — на месте ли деньги? — прошла в спаленку.
Сквозь сон она слышала ровное гудение мужиков и всхлип, собравший все звуки в один, — протяжный и тоскливый, как осенний дождь.
Клава проснулась от какого-то шума в комнате: вроде как стакан свалился со стола и, ударившись обо что-то твердое, разбился.
Она шагнула в комнату.
В комнате горел свет. В дверном проеме — дверей они так и не навесили — задницами в прихожую, а головами в комнату стояли на четвереньках мужики — Тихон с братом. Они боролись. Тихон, увидев жену, прохрипел:
— Клава, подай бутылку! Вон ту бутылку, пустую… — Он вытянул шею, жилистую, как натруженная рука.
Клава машинально подала ему пустую бутылку, спросонья еще ничего не соображая. Тихон схватил поллитровку и, коротко размахнувшись, ударил… Стекло посыпалось им на головы и они, как бы протрезвев, расцепились и рухнули на пол. Сидя на полу, братья с испугом смотрели друг на друга.
— Ты что? Братан! — выдохнул младший, не отрывая глаз от братниной руки, в которой было зажато горлышко от бутылки. — Ты же мог меня убить… насмерть! Понимаешь?
Тихон, содрогаясь всем телом, шептал:
— Я с понтом, братан, с понтом! Я бы тебя не убил! Я спецом так сделал, чтоб напугать тебя… все рассчитал и — ударил по косяку. Клянусь честью.
— Нет, ты хотел меня убить… Убить хотел, зарезать… Так на, режь меня на куски! — орал тот, распахивая на груди рубаху.
Они сидели на полу, прямо в тесном проеме, где не было никакой возможности подняться на ноги так, чтобы не удариться при этом лбами.
Клава очнулась. Только теперь она поняла, что братья дерутся и что их надо немедленно развести по углам, чтоб не изрезались по пьяному делу. Она протянула руки и, вцепившись в Тихона, выдернула его из проема, как из щели, в которой он застрял. Младший брат поднялся сам и все качал головой:
— Ты мог меня убить, ты мог меня убить… А за что? За сто грамм коньяка.
— Прости, брат. Ты ведь знаешь, какая у меня жизнь была… Прости, пожалуйста.
— Так вы, придурки, из-за этой капли разодрались? — удивилась Клава, наклонившись над бутылкой, на дне которой еще оставался темный коньяк, грамм сто пятьдесят. — Да?
Она подошла к столу и разлила последки по стаканам.
— Пейте, сволочи, и расходитесь! — приказала она, подавая им стаканы.
Братья выпили. После этого один — Тихон — потянулся, чтоб обнять, но другой отвел его руки.
— Не прощаю! — твердо проговорил он. — Братоубийцу не прощаю! Ни-ког-да! Точка, тире… Я уход отбиваю…
— Ну вот, поссорились… — хозяйку разобрал смех, и она закатилась. — Идите уж оба. Ты, Тихон, чего стоишь? Одевайся тоже…
Младший, выкрикнув на прощание: «Не прощу братоубийцу!» — вышел на веранду.
Тихон плакал.
Клава оглядела комнату. Грязный стол, на полу окурки… И больно глазам сделалось.
— Вас ведь и приветить-то нельзя, — проворчала она. — Думала: погуляете, а вы насвинячили только да подрались. Спи здесь, в комнате.
Она вышла на улицу, постояла на крыльце… Вечер пришел — небо переливалось, как брусника в лукошке! Светло и тепло, как тихо было вокруг… Собаки, подбежав к крыльцу, облизали хозяйкины ноги.
— Спать, девки, спать! — улыбнулась она.
Собаки поскулили, виляя хвостами, припадали на передние лапки, точно прижимались к земле.
— Не разбейте головы-то с радостей! Все бы ласки вам, а службу не несете, чертовки…