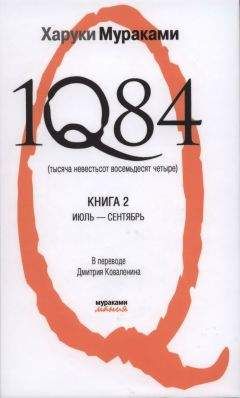Мужик осторожно покашлял, не открывая рта,
потом опустил тонкие, как у курицы, веки.
— Ему нужен покой, — сказал Андрей.
— Покой он лю-юбит! — раздалось насмешливо.
Мужик беспокойно поправил овчину и опять осторожно покашлял.
За спинами собравшихся вокруг Лепендина солдат Андрей рассмотрел скуластое, точно сбитое из камней лицо. Острая прямая черта рассекала его лоб.
— Он ради покоя к немцу нанялся на работу. А немец ему деньги не заплатил, вот он и мается.
Мужик, не открывая глаз, проговорил: [308]
— Хозяйство разорили, как тут подняться?
— Ты за свое хозяйство черту душу продашь.
Лепендин растолкал солдат.
— Пусти-ка, братцы, я на него посмотрю, кто такой будет, который про хозяйство так говорит... А, вот ты какой. Из мастеровых, видно. Как ты можешь про хозяйство говорить, скажи на милость?
Скуластый прищурился на Лепендина и потер руки.
— А почему мне не говорить?
— Как же за хозяйство не маяться? Мужику без хозяйства разве прожить?
— Ты постой, не ерепенься, послушай, что скажу. По-разному можно на хозяйство смотреть. В России крестьянин свое хозяйство сразу справил: работал весь век на господ, а потом смекнул, что ежели работа его, стало быть, и хозяйство ему принадлежит, никому другому. Взял да и прирезал господские земли к своим наделам, и стало все хозяйство крестьянским. Вот этакое хозяйство стоющее.
— Правильно! — отдалось где-то позади.
Кругом все притихло. Солдаты осматривали скуластого подозрительно, — он был, видно, чужим среди них — крепкий, сбитый из камня, в пиджачке и в куцем картузе на затылке. Никто не приметил, с какой партией он пришел и когда влился в эшелон. А скуластый скользил прищуренным взором по головам солдат, и, как мерка, укорачивалась и удлинялась на его лбу острая поперечная черта.
— Стоющее хозяйство то, от которого всему крестьянству польза. А от которого ему вред — за такое держаться нечего. Вот этого мужика по человечеству жалко — больной он, чахоточный, одним [309] словом. Однако и досада на него берет. По доброй воле нанялся к немцу, чтобы деньжонок подкопить, латы на портки поставить. А у нас в России портки даром раздают — всем хватит! Ему бы податься туда, где люди по-новому жить начали, а он в кабалу ушел, копеечку сколотить. Не верит, что у нас теперь все крестьянское добро задарма раздается.
— Задарма! — усомнился кто-то. — Больно ты прыткий!
— А ты что, не слыхал?
— Слыхать слыхали, да ты там был, что ль? Больно раздаешь-то все!
Скуластый подмигнул и потер руки.
— Был иль не был, кому какое дело, ну а кое-что знаю...
Его зажали в плотную скобку плеч, грудей и рук, и десятки глаз бегали за его вертким взглядом. Он вдруг рассмеялся.
— Зовут этого мужика — Киселем, дядя Кисель. Пощупал я его, а он и правда хлюпкий!
Больной завозился и поправил под головой овчину.
Кое-кто из солдат засмеялся.
— Жалеете вы его, ребятки, напрасно. Жалостью не поможешь, не такое теперь время. Вас тоже пожалеть надо — кто больной, кто безрукий, у кого ног нету. Мы должны сами себя пожалеть.
Семидолец перебил его:
— Ты зубы-то не заговаривай, мил человек, мы сами с усами. Ты, мал-мала, скажи, что тебе про Расею известно?
— Про Россию? Мы... можно.
Скуластый мотнул головой и сказал тихо:
— Пойдем-ка вон туда, там попросторней.
Он вынырнул из скобки теснившихся вокруг [310] него тел и — ловкий, верткий — метнулся в пустой угол вагона. Остроплечие, зыбкие, изуродованные солдаты повалили за ним, натыкаясь на лавки и стены.
Лепендин сидел неподвижно в своем лукошке.
Дядя Кисель приоткрыл веки, горящими глазками блеснул на Андрея, на Лепендина и покашлял.
— Что, правду говорят, — спросил он тихо, — на родине большие деньги все стали иметь?
— Деньги стали дешевые, верно, — сказал Андрей.
Дядя Кисель провел по овчине тонкими пальцами и снова закрыл глаза.
Лепендин вдруг стукнул уключинами по полу, подтянулся на руках и зло сказал:
— Небось тебе за твой полушубок сразу тыщу отвалят!
Раскачал туловище, пересел, опять с силой ударил уключинами по полу и двинулся к солдатам, примолкшим в углу.
Насколько хватало глазу, поле было засыпано людьми и узлами. Грузный гомон тяжело подымался над разъездом. Поезда пробирались ощупью и на стрелках подолгу мешкали, пробуя рельсы, как люди — топкую дорогу. От костров стлался над головами реденький едкий дымок.
В сосновой рощице были разбиты лагеря. За проволокой, сорванной с заграждений и намотанной на стволы, слонялись солдаты в деревянных башмаках, громыхавших по земле, точно бочонки.
В поселке, по еврейским конурам и лавочкам, [311] сновали ртутными шариками кургузые фигурки, то рассыпаясь, то скатываясь голова к голове, плечо к плечу.
— Вы на юг? Никогда не посоветовал бы.
— Но почему, почему? Я говорю вам — золотое дно, золотое дно.
— Что идет?
— Сахарин Фальберга.
— Никогда не поверю! Фальберг идет в Москве.
— Но вот вам человек, вот вам живой человек из Киева...
— Вы можете в Москве в два дня сделать дело, честное слово! Вы верите мне? Вы верите?
— Надо принять в расчет дорогу!
— Дорога, дорога, дорога — заладили про дорогу! Теперь везде одинаково, можете мне поверить. Я сделал сорок тысяч верст.
— Надо иметь риск.
— В Москве имеет риск каждый.
— Вы куда?
— В Варшаву.
— Как там ост-марка?
В старых окопах, заросших травою, ютились люди, похожие на цыган, — с детьми, со старухами, с лужеными мисками и битой посудой.
В землянке кричала роженица, под телегой на трех колесах бредил тифозный, над ним — в соломе — играли чумазые двухлетки-девочки.
Полураздетая женщина, с грудями, как пустые мешки, обирала на своем тряпье насекомых. Безногий солдат запекал в золе картошку и суковатой хворостиной отгонял ребятишек.
Люди роились вокруг костров жалкими выводками; и на земле, изрезанной окопами, взрытой разрывами снарядов, — загаженной, осквернен-[312]ной земле, рождались, умирали, любили, в тоске и злобе взыскали новой, чистой земли.
С востока, из тумана рассветов и сумерек, ощупью приходили поезда, набитые пленными, глаза которых в надежде и тоске устремлялись на запад, домой, на родину. В ловко сшитых русских гимнастерках, круглолицые, как будто все еще пахнущие сибирским кержачьим хлебом, пленные немцы пробирались толпою в карантинные бараки.
С запада, из другого плена, тащились толпы изможденных русских солдат, с глазами на восток, на свою родину, домой. Их тоже отводили в бараки, по другую сторону разъезда, за высокую заграду.
Но, минуя проволоку, заборы и загородки, люди сходились лицом к лицу, и молва о востоке, молва о западе, молва о горе, нужде и надеждах стлалась невесомым костровым дымком.
Когда перед Андреем, в окне вагона, развернулась эта человеческая пажить, его кто-то толкнул. Он обернулся. Позади него стоял скуластый парень в куцем картузе на затылке. Лоб его был гладок, черта исчезла, глаза живо горели, и рот подергивался довольным смешком.
— Это заварили мы! — сказал он, кивнув на муравейник и потирая руки.
От него веяло свежестью крепко поспавшего человека, и он упруго потягивался, хрустя суставами угловатых рук.
— Славная получилась опара. Ишь как пузырится! Я так думаю, — сказал он, сдвинув брови, — побольше бы этаких котлов.
И опять, туго потирая руки, пояснил:
— Братается народишка.
Потом Андрей видел, как на поле он скользнул в кучку людей, посновал там, вынырнул, перебе-[313]жал к другой кучке, к третьей. Вслед ему оборачивались то со смехом, то молчаливо. Он засевал в толпе какие-то небывалые мысли и был похож на соринку в бутылке с водой, которую взболтнули: вот быстро шнырнет, вот остановится, вот снова двинется, как от толчка.
Когда переселились в лагерь, дядя Кисель пошел бродить в народ. Здесь обрушилась на него разноречивая молва, точно камни с косогора, и он заметался по полю испуганным зверем.
— Спокойной жизни, дяденька, там нету. Приходит эта самая гвардия — давай лошадь. Крестьянин, сам понимаешь, беззащитный, — дает.
— Мужики у нас нынче вроде разбойников: в каждом дому бомбы держат, в овине — пулеметы, при себе всегда ножик. Без этого не проживешь.
— Брось брехню слушать. У меня скотина пала, вот я и ушел. А жизнь приятная, всего вволю.
— Кабы жизнь была возможная, нешто мы на такие мученья пошли бы? Сил никаких не стало.
— Каждый человек сам себе барин. Что желает, то и возьмет. Говорю тебе, поезжай без сомненья, не раскаешься.
Немцы в русских гимнастерках, загадочно улыбаясь, ломано говорили:
— Россия хорошо, Германия хорошо — все хорошо, когда голова.
Кургузый человечек взвизгивал и негодующе размахивал руками.