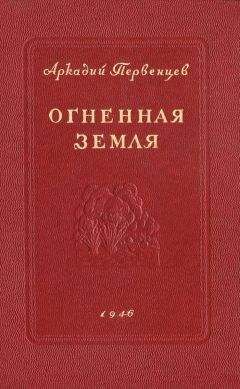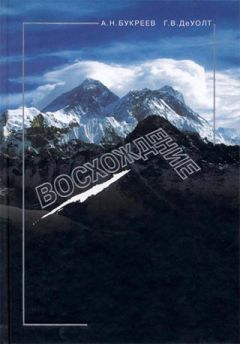Пока Курилов устраивал командный пункт, Букреев, отдав распоряжения по обороне, задержался с Горленко, с которым у него еще с Тамани установились отношения, обычно называемые личным контактом.
— Почему так пренебрежительны наши люди к своей собственной жизни? — спросил Букреев. — Я заметил, как скептически все воспринимают необходимость фортификационных работ. Хмурятся, еле–еле тащут ноги. Даже наш уважаемый командир первой роты.
— Моряки не хотят окапываться, — сказал Горленко, — а для Рыбалко это просто нож к горлу.
— Почему?
Горленко засмеялся.
— Трудно понять. На корабле ведь земли нет, не привыкли что ли?
— Но они воевали на суше.
— Воевали. Но обычно при десанте врываются в город. Там здания все заменят, возьмите хотя бы Керчь, Новороссийск, а полевую войну кто же вел. Кто был на перевалах, тоже избалован. Все естественно. Воевали на готовом рельефе.
— А севастопольцы?
— Ну, разве что в Севастополе! Там крепко учили, особенно Иван Ефимович. Если что не так и по шее накладет.
Перещупав всю коробку папирос, Букреев нашел одну непромокшую и, прикрывшись полой, закурил. Светящиеся трессеры бродили над головой, и ракеты отбрасывали на стенку перекрещенные тени от брошенного на бруствере ежа, сваренного из кусков толстого швеллера. Где‑то слышался стук разматываемой катушки. Очевидно Курилов уже потянул связь от КП батальона к ротным опорным пунктам. Букреев курил и думал, что у Степанова придется выпросить саперов — поставить на переднем крае мины, помочь распланировать участок обороны, наметить ходы сообщения, запасные огневые позиции.
— Помню, отступали по степям и потеряли, прямо скажу, интерес к фортификации, — сказал Горленко. — Только создадим рубеж, окопаемся, глядим уже танки где‑то прорвали и вглубь ринулись. Бросай все свои труды. Я сам десятки раз волдыри набивал на ладонях, помню, добирался и до камня и до воды. Все лопатой перевернешь, а потом опять айда.
В окоп спрыгнул Курилов.
— Командный пункт готов, товарищ капитан, — весело объявил он. — Аппараты пока поставил немецкие.
— С КП дивизии связались?
— Повели линию, товарищ капитан. Площадка небольшая, управятся быстро. Я приказал тянуть провод к берегу, а там по мертвому пространству. А то начнет завтра швырять, все порвет.
Поднявшись вверх, Букреев пошел к поселку. По шур- шанью шагов позади себя он знал, — Манжула не отстает. В Геленджике и на Тамани постоянное присутствие ординарца иногда докучало. Теперь же близость его успокаивала. У Манжулы выработались им самим узаконенные нормы поведения: в атаке забегать вперед, как бы прикрывая командира своим телом, в переходах стараться находиться с угрожаемой стороны.
Маяк белел грудой развалин. В поселке горел дом. Языки пламени стоймя поднимались между стропилами, освещая крыши ближних домиков.
Ближе различились разрушенные постройки, вероятно, склады, черневшие на фоне одинокого пожарища.
Поджидавший комбата Горбань провел его и Манжулу через пролом в стене, как будто сохранивший еще теплоту и запахи взрыва, и, присвечивая фонариком, указал на ступеньки, оббитые по закраинам. Ступеньки вели в подвал.
В подвале разливался подрагивающий желтоватый свет коптилки. Возле стола Батраков что‑то быстро писал. Над ним склонился Линник. Пистолет в германской кобуре свисал с его живота, шапка сдвинута на затылок. В одном из углов расположился Кулибаба, успевший расставить на столике консервные банки, кастрюльки, посуду, подобранную, очевидно, в немецких блиндажах. Дежурный мичман наклеивал на коробки телефонных аппаратов ярлычки с цифрами рот. Человек в кожаной куртке, стоя на коленях, мастерил в углу печку. Невольно улыбнувшись этому поразительному уменью приспособляться к любой обстановке, Букреев присел к столу. Замполит намечал план партийно–комсомольской работы на плацдарме и даже готовил копию плана для отсылки Шагаеву. Это было также удивительно, и только сейчас почувствовав страшную усталость, Букреев следил за работой замполита может быть с таким же чувством, с каким недавно за ним самим наблюдал Курилов. Наружные шумы глухо долетали сюда. Лениво взяв трубку, Букреев, не переставая смотреть на тонкие пальцы замполита, снующие по бумаге, соединился с КП дивизии. Ему ответил Гладышев спокойным и тонким своим голоском. Расспросив о ходе фортификационных работ, Гладышев извинился, оборвал разговор. Букреев еще немного подержал трубку у уха, звонкий шум летел по проводам.
— На партийно–комсомольском собрании я прошу обязательно поставить вопрос о фортификации нашего участка, — медленно сказал Букреев, — мной отданы распоряжения на этот счет.
— В плане я поставил этот вопрос первым, — сказал Батраков.
— Уже?
— Конечно, — уголки его глаз засветились, — насчет окапывания надо будет ломать настроения, Николай Александрович. Особенно у Рыбалко.
Мне об этом говорил и Горленко. Горленко тоже, как и я, давно знает Рыбалко. Перед твоим приходом звонил сей доблестный муж. Представь себе, он находит возможным ограничиться тем, что ему отрыли немцы.
Линник незаметно вышел. В присутствии комбата он держался всегда несколько стеснительно. Манжула помогал выкладывать печку, засучив рукава и открыв свои мохнатые руки. Кок консультировал, куда и как класть кирпичи, и просил обязательно достать где‑нибудь духовку. Моряки коротко посмеялись и притихли. Слышалось только их дыханье, стук кирпичей и поскрипывание сжимаемого для труб железа.
— Мне рассказал Линник вот только что, перед твоим приходом, об Иване Васильевиче, — сказал Батраков. — Не повезло парню. Как не повезло! Готовился, готовился и вот на–те… Ты просил контр–адмирала отправить Баштового в Геленджик?
— Мещеряков обещал. Радировали Ботылеву, и он обещал лично отвезти его. А насчет Звенягина знаешь?
Батраков покачал утвердительно головой. На его сразу как бы застывшем лице медленно подрагивали тени.
— Ничего не попишешь, Николай Васильевич. Такая наша солдатская судьба. Представь себе, мне вдвойне тяжело. До сих пор гложет: спасал он кого? Меня. Может потому?
— Не думай, — Батраков шевельнул кистью руки, — это случается всегда по какой‑нибудь причине. Не подвернись ты, другого нужно было выручать, или тот же снаряд шальной. На войне, если во все причины начнешь вдумываться, с ума сойдешь.
— Яровой тоже плох, — сказал Букреев. — Был я у него. Просит не отправлять его отсюда. Хочет быть с нами. Когда, мол, пойдете вперед, все же я ближе буду.
— Пока, конечно, трогать не будем. Как там? Кто- нибудь обслуживает их?
— Назначил я начальника медсанчасти…
— Кого? Уж не Татьяну ли?
— Ее. Одна осталась, если не считать Котлярову. Ты возражаешь?
— Чего возражать. На безрыбье и рак рыба. Доктора- то принесло зыбью, чуть повыше расположения второй роты, — Приказал я закопать под обрывом и приметить.
Дежурный попросил комбата к телефону. Стонский сообщал, что Цыбина вытащили и понесли в госпиталь.
— Я приказал автоматчиков рассредоточить по остальным ротам, — сказал Букреев, отходя от телефона. — Роты почти не существует.
— Ребята не бузили?
— Тихо приняли.
— Конечно, это временное мероприятие, — подумав, сказал Батраков, — когда укрепимся и пойдем вперед, если бог даст, тогда надо просить пополнения у контрадмирала и роту восстановить. Нужно ее целиком довести до Севастополя.
Степанов вошел в сопровождении Куприенко.
— Представьте себе, знакомые все места, — здороваясь, сказал Степанов, — вот в этом самом подвале я держал свой компункт в сорок втором. Жаль нет Баштового. Он оборонял район повыше, за Соленым озером. Возвращаемся к старым местам…
Степанов быстро ознакомился с обстановкой, утвердил мероприятия командования батальона, прощупал Курилова как начальника штаба, а затем дружески разговорился.
— Помните, я рассказывал, Николай Александрович, про туапсинское наше стоянье. Здесь не лучше будет, уверяю вас.
— Почему же? — спросил Батраков, все еще строгий и недоверчивый.
— Как почему? Там хотя позади что‑то было, площадь какая‑то. А здесь аппендицит. Тут, братцы мои, назад действительно ни шагу. Лимит. Море…
Скрывая внутреннюю тревогу, Степанов просидел на КП часа два, а потом обошел позиции батальона у болота и долго смотрел в сторону мыса, где сидели насторожившиеся немцы.
Воспоминания, Букреев. Ведь там та самая переправа, где мы поскандалили с Баштовым. — Степанов снизил голос до шопота и в тоне его послышалась грусть. — Как будто вернулся к родным местам. Там, где горя хлебнул, долго не забудешь. Долго. Не знаю, куда впереди нас кобылка повезет, а вот сюда довезла. Вину искупим, как говорится… а пока пойдемте‑ка вздремнем, а то утром долго спать не дадут. Не у тещи на именинах..
День второй начинался в мутном рассвете. Подожженные снарядами, горели дома поселка. Освеженный сном, Букреев обходил боевые участки. На берегу, в пене прибоя возились матросы, вытаскивая из воды крупнокалиберные пулеметы с погибшего катера. Валы зыби поднимались и иногда накрывали людей с головой; они отряхивались и снова продолжали тащить пулемет. Заметив комбата, моряки заработали еще веселей. В одном из них Букреев узнал старшину первой статьи Жатько, служившего вместе с Таней в 144 батальоне Острякова. Жатько сошел на берег с быстроходного тральщика «Мина» и все время работал на ДШК,[2] особенно отличившись в известном бою под станицей Широчанской, когда матросы буквально срезали из таких вот крупнокалиберных пулеметов атаковавшую их румынскую кавалерию. Отступая с боями до Ахтарей, Жатько на шаланде добрался к Темрюку. Шаланды, как рассказывала Таня, потопила авиация и пришлось выплывать. Была ли Таня на шаланде? Вероятно была, хотя, как ему помнится, о себе она умолчала. Но в обороне вместе с 144 батальоном у совхоза «Красный Октябрь», у станиц Курчанской и Вараниковской Таня была.