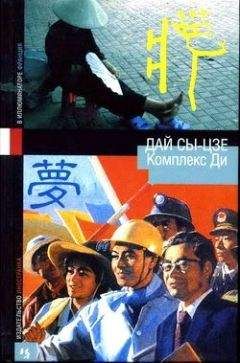— Ты всегда была добрая, только раньше у тебя не было таких возможностей делать добрые дела, а теперь ты щедра, как королева.
Она смутилась и махнула рукой:
— Какая уж есть!..
Я налил рюмки.
— За нашу старую дружбу, за твое счастье, Аня, — сказал я проникновенно. — Слышишь?
Но она не подняла головы. И тут я заметил, что на скатерть упала слеза.
— Ты что, Аня?
Я погладил ее по волосам, а слезы у Ани почему-то побежали одна за другой. Но мало-помалу она успокоилась:
— Вот ты говоришь — счастье… Когда я осталась сиротой, все думала: самой бы жить как людям, заиметь специальность, хорошо одеться, вырастить брата, поставить его на ноги — вот и счастье… — Она помолчала минуту, а потом продолжала, и даже с какой-то досадой, как мне показалось: — Теперь все это есть, даже то есть, о чем я не мечтала, вот, — она махнула вокруг рукой, — а какая в этом радость?.. То лето, когда мы с тобой… помнишь?., вот единственно, что я вспоминаю с радостью, и думаю, что вот тогда-то и было в моей душе то самое, что можно назвать счастьем… Но неужели так и пройдет жизнь?
— Ну зачем же? — пробормотал я и отвел глаза, потому что Аня так жадно смотрела на меня и так ждала какого-то ответа, словно я был для нее невесть кто, последняя инстанция.
— А ты, ты-то хоть доволен жизнью? — опять спросила она, — Ведь ты всегда был самоуверенный, я так тебе завидовала!..
Я опять налил рюмки.
— За тебя… — В голове у меня уже было тяжело, да еще я стал почему-то нервничать, как будто у меня из-под ног уходила твердая земля.
Потом я пересел на мягкий диван, Аня прижалась ко мне, положила голову на плечо и что-то рассказывала про то лето, когда мы были счастливы, говорила что-то про камыш, про лягушек, как они громко квакали, а я, борясь с одолевающей меня дремотой, все думал почему-то: про кого это она говорит? И на ее вопросы: «А помнишь?», «А вот тогда на танцах ты сказал!..», «А тогда вечером, вот здесь, мы целовались, помнишь?» — я ничего не мог вспомнить и только согласно кивал тяжелой и тупой головой. Правда, где-то далеко, как будто за плотно закрытой дверью, ко мне пробивалось назойливо: так нельзя жить, так нельзя, надо что-то делать, но уж очень это все было невнятно, неопределенно и глухо.
Утром я долго лежал в постели и, не открывая глаз, слушал, как в кухне мягко ходит Аня и тихо поет. Что она там поет, разобрать было нельзя, кроме разве того, что «ночь была, был туман…» Что-то жарилось там, и запах лука назойливо пробивался сюда, от него нельзя было укрыться даже под одеялом.
Потом с хрипом пробили часы — раз восемь… Пора бы вставать да идти на завод, получать свои моторы. Павел Семенович скоро должен подъехать. Но я все лежал с закрытыми глазами, силился вспомнить, не наговорил ли вчера Ане чего-нибудь лишнего? Кажется, ничего… И уже с тоской вспоминалась моя холостяцкая квартира, совершенно пустая, и в этой пустоте так резко, так пронзительно раздаются телефонные звонки. Когда есть работа и она тебе нравится, совсем не страшно, что впереди целая жизнь, которую как-то надо прожить.
Ане на работу нужно было к девяти, и мы шли вместе. Оказывается, работает она там же, в типографии, только теперь уже директором: ведь она закончила полиграфический техникум, и вот ее заветная мечта осуществилась вполне.
— И коллектив у нас такой дружный! — сказала она. — А ты любишь свою работу?
Я кивнул и улыбнулся: не буду же я на улице распинаться о том, что дело, которым я занимаюсь, — единственное, что пока примиряет меня и с людьми, и с самим собой. Так что я просто кивнул, вот и все.
На автобусной остановке мы постояли: мне нужно было ехать до завода, а это далеко. Кроме того, мороз такой, что ноги уже застыли.
— На праздники, на дни рождения мы собираемся вместе, и бывает так весело, — говорила Аня, но по глазам ее я видел, что она думает совсем о другом.
Мне стало как-то жалко ее, потому что праздники и дни рождения — дело редкое, и, если твоя душа одинока, никакие пирушки этого горя не развеют.
— Знаешь, — сказал я, — в пятницу я, может быть, приеду…
— Правда?! — Глаза ее заблестели. — Приедешь?
— А ведь здесь недалеко.
— Да тут совсем рядом, на автобусе часа полтора, а на такси и того меньше.
А что, подумал я, возьму и приеду, надо ведь хоть раз в неделю по-человечески поужинать?..
Так я внушал себе, но уверенности не было, что соберусь в такую даль, ведь не собрался бы и на этот раз, если бы не нужда в моторах.
Уже подходил автобус. Аня несмело припала ко мне, я ткнулся губами в ее лоб, в волосы, которые слегка заиндевели на морозе.
— Приезжай!..
Я кивнул и полез в автобус. Когда дверь со скрипом затворилась, сквозь чистую ото льда полоску стекла я увидел Аню: она поправляла сбившийся пуховый платок.
Не знаю, что я за человек и что хочу видеть в других. Те, кого я знаю, мне неинтересны, неинтересна их жизнь, их мысли, которые все больше о еде, о вещах, неинтересны их мечты. Да и что может быть интересного в том, если единственная мечта, которая согревает душу, — это новая автомашина? А мечта у моей Ани — это приятное замужество. Ей хочется мужа такого же, как она сама: рассудительного, трезвого, который бы уходил на службу в контору в девять и возвращался в пять, и тогда все будет как у людей — и дом, и муж, и мебель, и одежда. Прекрасно!..
Я до завода еще не доехал, но уже твердо знал, что никуда в пятницу не поеду, а в субботу и воскресенье, если не будет никакой срочной работы, буду лежать у себя в пустой квартире на диване и слушать Бетховена — ведь акустика великолепна! И еще я точно знаю, что где-то есть человек, тот самый единственный человек, к которому стремится моя душа. Может быть, я не буду счастлив с этим человеком (с этой женщиной), может быть, довольно скоро нас постигнет разочарование (конечно, мнимое!), но все равно это тот единственный человек, с кем я только и могу узнать, что такое счастье, что такое любовь. Короче говоря, «ты у меня одна заветная, других не будет никогда!..». И может даже быть, что человек этот где-то рядом, может, едет в этом же автобусе…
Павел Семенович уже ждал меня: машина стояла неподалеку от проходной, из-под кузова, вился белесый дымок, — мотор работал, в кабинке было тепло.
Из проходной я позвонил Вячеславу и попросил, чтобы он распорядился насчет моторов. Я думал, что он будет звать меня к себе в кабинет — ведь друзья мы с ним, старые друзья! Чтобы как-то отбояриться от этого приема, придумал даже предлог. Сам не знаю почему, но мне сейчас не хотелось видеть его, почему-то чудился запах плова, которым, конечно, набито его крепенькое брюшко. Вот почему я не стал подниматься в кабинет главного инженера, а позвонил ему из проходной. К моему удивлению, Вячеслав обрадовался даже моей просьбе, так что мне и не пришлось врать: ему, видать, тоже не очень хотелось меня сейчас принимать, или некогда было — совещание или еще что. Даже обидно как-то стало. Но я очень искренне поблагодарил его, а он сказал этаким вельможным тоном:
— Не стоит, мы ведь свои люди.
— Да, разумеется…
— Ну вот, — заключил он мягким, сытым голосом. — Если что нужно будет, звони, поможем.
Поможем!..
Мы с Павлом Семеновичем погрузили моторы и выехали в обратный путь. На душе было отчего-то досадно, сытый голос друга стоял в ушах.
— Ну что дома? — спросил я, чтобы отвлечься от этой своей досады. — Мать здорова?
— Бродит, — живо откликнулся Павел Семенович. — Такой обед состряпала, какого я уже лет десять не едал! А пиво у нее завсегда есть, она мастерица варить пиво. Ну, я и врезал. А пиво крепкое. Меня и развезло…
Возле будки ГАИ на выезде из Вырасар Семеныч сбавил скорость, мы помолчали, а потом он опять заговорил о том, как провел вчерашний день, как съездил еще матери за дровами на станцию и нарвался на инспектора, пришлось раскошелиться на три рубля, а то бы дырки в талоне не миновать.
Дорога была ровная, гладкая, и машина летела, казалось мне, с удовольствием. Я не особенно вникала рассказ Павла Семеновича, мысли мои убежали далеко вперед, туда, в свою «Сельхозтехнику», и я уже думал о том, пригнали ли из колхоза «Чапаевец» три внеплановых комбайна для капитального ремонта, — ведь с этим связаны и многие наши проблемы: материалы, фонды, соревнование… И думать обо всем этом было сладко. Но вдруг Павел Семенович тронул меня за руку.
— Вот какое дело… — сказал он как-то тревожно.
— Что такое? Трешником обошлось — или?..
— Нет, я не о том, — сказал он. — И чего хочу сказать… Дрова я привез. Ну и еще выпил. Мать на радостях угощает, а я не отказываюсь. Она и спрашивает: «Паша, уж не ударился ли ты в вино?» И такой испуг у нее, у бедной! И вот я хоть пьяный, а чего-то тоже испугался. Не соображу никак, чего испугался, а страшно сделалось. Страшно-то страшно, а выпить еще хочется. Прямо душа горит, как выпить хочется… Это что же такое, а? Неужели это началось?