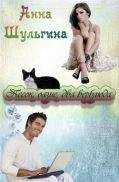Мамыш, очищавшая рис для плова, в лад его словам качала головой, не замечая, что глаза Ханыка воровато бегают, разглядывая все углы.
— Тетушка Мамыш, — спросил он наконец, — скоро ли Нурджан придет с работы?
— Говорил, дорогой мой, что нигде не задержится и вернется прямо к обеду с товарищем.
— Не меня ли имел в виду?
— Наверно, тебя, дорогой…
Нурджан давно приглашал в гости. «Познакомишься, говорит, с моей матерью, посидишь с ней и про свою мать позабудешь». Вот как говорил про тебя. Может, и сейчас Нурджан ищет меня? Правда, я его не видел со вчерашнего дня…
— Ханык-джан, а с кем еще он может прийти? Ты знаешь его друзей?
Этот вопрос порадовал Дурдыева. Старуха сама торопилась в расставленные сети. Изобразив притворное смущение, помолчав для пущей важности, Ханык со вздохом сказал:
— Тетушка Мамыш, очень хочется рассказать тебе кое-что. Чувствую, что для пользы Нурджана должен поделиться своими мыслями. Но боюсь, что тебе будет слишком больно, и потому прикусываю себе язык…
Никто не смог бы лучше сыграть на самой слабой струнке старухи. Мамыш вечно страдала от мнимой скрытности сыновей, изнемогала от любопытства, выпытывала у Нурджана какие-то несуществующие тайны. Сейчас она быстро придвинулась к Ханыку, не замечая, что рис просыпался на ковер.
Дорогой мой, если вправду хочешь стать моим сыном, никогда ничего не скрывай. Ты не испугаешь меня. Я старуха, видавшая и холод и жару, привыкшая равно благодарить жизнь и за цветы и за траву. Если беспокоишься за Нурджана, не робей, говори мне все! Я не испугаюсь, а только буду настороже. И мы вместе оградим его от беды.
Круглое лицо Ханыка, как всегда в минуты волнения, дергалось, глаза бегали. Но Мамыш принимала это за признаки стеснительности.
— Ну, говори же, не бойся, — подбодрила она Ханыка.
— Прости меня, мамочка, за горькие слова, какие я заставляю выслушать, — сказал он плачущим голосом. — Так болит сердце за Нурджана… Трудно удержать слезы…
И он всхлипнул.
— Не томи меня! Говори правду! — воскликнула перепуганная Мамыш.
— Что делать, мамочка, Нурджан потерял голову. Околдовали его, и он забыл друзей, и меня забыл…
— Околдовали? — шепотом переспросила Мамыш, уставившись на Ханыка круглыми от ужаса глазами.
— Совсем околдовали, мамочка.
У старухи даже голова затряслась. Она крепко схватила за локоть Ханыка.
— Кто же это сделал?
— В том-то и дело, мамочка, что никудышная вертихвостка, не стоящая даже следа Нурджана!
Мамыш дергала руку Ханыка, как голодная собака рвет еще не обглоданную кость.
— Что за вертихвостка? Русская? Туркменка?
Ханык, конечно, не постеснялся бы приписать все пороки Ольги тому, что она русская, но ему захотелось выглядеть в глазах старухи поблагороднее.
— Мамочка, дело не в национальности, а в душе!
— Дорогой, сердце рвется на части, скажи скорее — кто она?
— Она промысловый оператор, вроде Нурджана, и тут еще нет ничего худого. Но страшно другое: она не видит разницы между днем и ночью, между хорошим и плохим.
— Что ты сказал? Не отличает плохое от хорошего?
Почувствовав, что Мамыш полностью доверилась, Ханык нанес решительный удар.
— Прямо скажу, мамочка, Ольга — девушка легкого поведения.
— Что такое? Олге?
— Ольга Николаевна Сафронова.
— До чего же злая моя судьба. Айгюль превратилась в Ольгу, а Човдур в Сапара!
— Верно, верно говоришь, мама! Если бы мне посчастливилось сосватать такую пери, как Айгюль, я бы в одно мгновение семь раз склонился перед ней и семь раз выпрямился. Как жаль, что околдованные, пеленой задернутые глаза Нурджана не замечают ее.
— Лучше бы эта пелена пала на мои глаза!
— Что там говорить, мамочка, если человек околдован, он и в слепую и в горбатую может влюбиться.
— Только этого не хватало! Мало мне, что Аман стал калекой, так теперь и чужая, со стороны пришедшая к моей скатерти, оказалась кривой и горбатой!! Как же я переживу все это!
Концом платка Мамыш вытерла слезы, Ханык испугался. Что, если она заголосит и на крик сбегутся соседи?
— Не тревожься так, мамочка! Еще неизвестно, чем кончится дело, может, образумишь сынка, да и я полезу хоть в огонь, чтобы поссорить их друг с другом.
В голове Нурджана не отыщешь и капли разума! Все мои слова для него — пустой звук. Может, ты сумеешь сладить с ним? Дорогой мой, постарайся, ради дружбы постарайся уберечь его от неверного шага. А я твоей доброты никогда не забуду.
Ханык чувствовал, что заврался, и Мамыш легко сможет убедиться, что Ольга не кривая и не горбатая.
— Не стану скрывать, мамочка, Ольга красивая, привлекательная девушка.
— Какая польза от луны, если я не достаю до нее? Я же не пойму языка этой Олге! Пусть хоть алмаз в кольце, а что делать, если не лезет на палец?
— Не в этом дело, мамочка. Ольга и по-туркменски говорит. Но не страшно, если бы и не говорила. Когда сердца слиты воедино, можно понять друг друга и без языка: глаза объяснят желания чистых сердец. Но если сердца не сольются, как мед с маслом, тогда всему конец! Как бы тебе пояснить?.. Ольга не такая уж плохая девушка. Но выросла без матери, без воспитания… Ее капризная рука куда хочет, туда и тянется. Не стану скрывать от тебя, ее белые руки обнимали и шею Тойджана Атаджанова. Весь город говорит, что они ночевали вместе, когда ездили на праздник в колхоз. Тянулись эти руки и к моей шее, но ты знаешь мой характер. Я сбросил их, как веревку с шеи верблюда. Жаль, что эти руки капканом вцепились в Нурджана…
Мамыш вскочила с места.
— Ах, дорогой, что же делать?
Ханык тоже поднялся с ковра.
— Мамочка, я излил свое сердце, исполнил свой долг. Если позволишь, я теперь уйду.
Но Мамыш не слышала. Голова ее тряслась, в полном отчаянии старуха твердила:
— Ах, дорогой, что же мне делать?
Боясь, что Мамыш упадет, Ханык поддержал ее, поцеловал в висок.
— Не убивайся, мамочка. Я все улажу. Не сыном Дурдыева буду, если вместо Ольги не приведу тебе в дом Айгюль!
Обратив на Ханыка благодарный взгляд, Мамыш мокрой от слез рукой погладила его по голове.
— Пусть ждет тебя удача на каждом шагу.
— Будь спокойна! Только разреши мне поскорее уйти.
— Ни за что, дорогой! Сварю плов, покушаешь, тогда и уйдешь. Верно говорится: «Хороший парень — к обеду».
У Ханыка давно разыгрался аппетит, но он понимал, что дольше задерживаться опасно.
— Если Нурджан застанет меня здесь, все мои планы рассыплются, как бисер, нанизанный на гнилую нить.
— Как же я отпущу тебя без обеда?
— Ах, мамочка, я сам был бы счастлив просидеть с тобой весь день, да не приходится…
— Не везет тебе, бедный мой… Ну, я оставлю тебе, придешь попозже.
— Если правду сказать, я, конечно, не невидимка. Но, кроме ветра, никто не знает, где я хожу, где бываю, куда иду и когда я приду. Не обещаю, что скоро появлюсь. Но пусть никто, особенно Нурджан, не знает, что я был здесь. Понятно?
Мамыш поглядела с сомнением. То ли не понравились ей эти слова, то ли не верила в собственную выдержку.
— Дорогой, как же я могу дать такое обещание?
— Разве так трудно исполнить его?
— Сколько ни старался Атабай обуздать мой язык, ничего не мог поделать с этим маленьким кусочком мяса в два пальца длиной. Если я попробую прикрыть свой рот, язык, наверно, начнет щекотать мне нёбо.
Дурдыев вынужден был заговорить построже:
— Хорошо, мамочка, если думаешь, что это пойдет тебе на пользу, выйди во двор и во все горло кричи о нашем разговоре.
— Нет, дорогой, нет! Я шучу. Понимаю, что для меня стараешься. Будь уверен, как ни слаб мой язык, он станет дверью на семи замках. Не будь я матерью Нурджана, если когда-нибудь проговорюсь!
Успокоенный тем, что повесил замок на старухин рот, Ханык решил взять и ключи с собой.
— Мамочка, мне совесть не позволит поступить, как другие: мол, пусть все идет как бог даст. Я для друга пойду на все! Но если ты не понимаешь этого, пеняй на себя.
Мамыш обеими руками ухватилась за Ханыка.
— Понимаю, дорогой, понимаю.
— Если понимаешь, то хорошо. А теперь — до свидания!
По тому, как покачивал плечами Ханык, надевая сапоги, как переступал с ноги на ногу, влезая в ватник, было видно, что настроение у него хорошее, но Мамыш, погруженная в свои мысли, ничего не замечала. Вдруг спохватилась.
— Ой, дорогой, подожди-ка! — Она раскрыла скатерть, достала круглую жирную лепешку, сложила вдвое, быстро завернула в газету и протянула Дурдыеву. — Ханык-джан, нельзя уходить из дома, ничего не отведав. Положи эту соленую лепешку себе за пазуху, дорогой.
Дурдыев отогнул край газеты и уставился на вкусно пахнущий чурек, как петух на зерно, вдруг с жадностью откусил кусок и, мотнув головой, выбежал из дома.