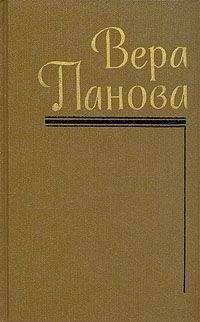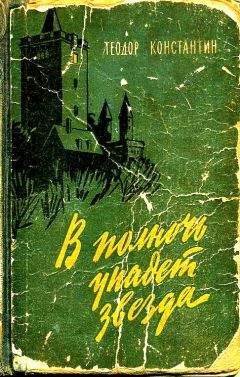В армию он пошел добровольцем. В восемнадцатом году, когда городом при помощи интервентов овладели белогвардейцы, много рабочих ушло с красными частями, и Степан Борташевич в их числе. Сначала был бойцом, а после ранения и контузии служил по интендантству. Демобилизовавшись, вернулся на «Саломас». Что можно устроить жизнь иначе, ему и не представлялось. «Э, проживу!» — думал он о своем будущем.
На заводе его встретили хорошо — с заслугами товарищ. Он попросился на пресс, но его приставили к хозяйственной части, а вскоре назначили заместителем заведующего. Подвернулась симпатичная дивчина, он встречался с нею по вечерам в клубе рабочей молодежи. Дивчина запевала, и Борташевич с удовольствием пел вместе с комсомольцами:
Я на «юнкерсе» летал,
Чум-чара, чу-ра-ра,
Нигде бога не видал
Ку-ку!
Погуляли, попели, потом сходили в загс и расписались. Как-то само собой это вышло.
Работал Борташевич с увлечением. Он был хороший организатор, старался изо всех сил, его полюбили. Завод «Саломас» выпускал туалетное мыло. За годы разрухи рецептура была забыта, мастера разбрелись. На бирже труда квалифицированных мыловаров не было. В газетах ругали «Саломас» за качество продукции: мыло получалось вязкое и клейкое, шибало в нос грушевой эссенцией; то совсем не мылилось, а другой раз чуть смочишь водой, весь кусок размокал в кисель… Потребители писали жалобы, сбыта не было, продукция залеживалась.
Борташевич навел справки; удалось установить адрес одного старичка, работавшего раньше мыловаром на «Саломасе». Борташевич съездил за ним в деревню и привез его на завод. Может быть, не так уж много знал и умел тот старичок; но до того ему хотелось оправдать доверие, до того он, как говорится, мобилизовал свой опыт и смекалку, так терпеливо и дружно помогали ему заводские организации, что через два месяца «Саломас» стал выдавать вполне приличную продукцию; а через полгода эта продукция конкурировала с мылом «Букет моей бабушки», популярным среди населения…
Так начинал Степан Борташевич. Радостно ему в те дни работалось, легко дышалось… Когда его назначили в контору богатого всесоюзного треста, он не испугался: что ж, и там буду так же работать, войдя в курс; с завода только жаль уходить… Но уж очень тут все внушительно. Ишь ты, как бывший управляющий поставил дело: верно, так и требуется, недаром его перевели с повышением в Москву… Один главный бухгалтер чего стоит: виски седые, говорит бархатным голосом, осанка — прямо тебе Наркоминдел, а не торговая контора. «Надо будет и мне держаться внушительно, — подумал Степан, — чтобы не нарушать общую картину. Назначила партия на такую должность — понимай, приноравливайся к обстоятельствам…» Вошел посетитель: модные куцые брючки, ботинки с длинными носами, рант прошит золотистым шелком, бритое лицо осыпано розовой пудрой… «Костюм новый придется купить. Не умею я этого ничего…» И он еще раз пожалел о своем стареньком уютном заводе, где все было просто, как дома, где женщины в конторе так же повязывались красными платочками, как и работницы в цехах, и звали его «Степа». И если он чихал, они кричали из-за фанерной перегородки: «Будь здоров!»
В кабинет вошла Надя: принесла бумаги на подпись. Она говорила с новым управляющим почтительно и в то же время сочувственно, как будто он попал в затруднительное положение и нуждался в деликатной поддержке. На ней было темное строгое платье, серебристые чулки обливали высоко открытые ноги. На губах лучшей, высококачественной помадой было нарисовано томное сердечко. Борташевич сидел перед нею в своей полинялой косоворотке и мятом пиджаке, сурово насупясь: он боялся уронить себя, пролетария, перед этой конторской барышней, которая, судя по ее рукам, настоящей работы не пробовала. Но барышня стояла скромно и видом своим как бы говорила: «В обиду не дамся, но место свое знаю, будьте покойны». Уходя, сказала дружелюбно:
— Если вам что-нибудь понадобится, Степан Андреич, — вот звонок, позвоните, это звонок ко мне.
«Нет, она ничего себе», — подумал он, глядя, как она идет на своих высоких каблуках, мягко и пружинисто ступая по ковру и позвякивая маленькой связкой ключей, надетой на палец.
А скоро она стала ему очень нужной: помощница, которой вполне можно довериться. Она тактично помогала ему освоиться на новом месте, разобраться в незнакомой номенклатуре и понятиях. Держала его бумаги в образцовом порядке, напоминала по утрам, какие дела предстоят ему сегодня. Не раз выручала его из трудного положения: когда являлся неприятный ему посетитель (она умела с первого взгляда отличать таких посетителей), Надя отрывалась от машинки и спешила на помощь неотесанному управляющему; и если Борташевич начинал повышать голос, Надя ловко включалась в разговор и настраивала его на правильный тон. Увидев, что Борташевич ей доверился, она занялась его манерами: «Вы умеете так прекрасно держаться… Вас уважают за ум… Для чего же ругаться, да еще кулаком стучать? Он весь бледный сидел…»
— Так ведь сволочь! — возражал Борташевич, прижимая к груди тощие кулаки. — Вы же слышали — так и юлит, чтобы объегорить государство… Частник, гад!
— Во-первых, частников допустила советская власть — значит, есть от них какая-то польза?
— Вы, Надя, не понимаете: это тактический ход партии. Частник существует временно.
— Но все-таки с разрешения существует, правда?
— Все равно, нэпман мне не товарищ!
— Кто же спорит, конечно не товарищ, но он к вам по делу пришел в учреждение. А вы его обругали по-уличному… И, во-первых, хоть нэпман, но образованный человек. Напишет жалобу, очень приятно…
Нарисованный рот шевелился, как красный цветок; струи парфюмерных ароматов лились на Борташевича — он слушал и думал: «Черт его дери, а ведь верно, раз уж приходится иметь дело с нэпачами, надо личные антипатии спрятать в карман и держаться культурно…»
С двенадцати до часу в конторе был перерыв на завтрак. Надя входила без звонка, стелила на письменном столе белоснежную салфетку, принесенную из дому; за Надей уборщица несла на подносе чай и бутерброды. «Жидкий чай, — строго говорила Надя, — подайте другой». Борташевич пил и думал: «Хорошо иметь возле себя такого человека…» Он рос сиротой, в теткиной семье, в бедности; никто никогда его не нежил; и сейчас у него салфеток не водилось, они с женой обедали и ужинали в столовой, занимались в читальне, дома бывали мало. Надя опять появлялась, прибирала на столе и спрашивала: «Больше ничего не нужно? Я могу пойти в кафе?» — как будто она была раба, а он владыка, который мог запретить ей завтракать в положенный по закону час.
Борташевичу нравилось, что она так ставит вопрос. Когда интеллигентная и красивая девушка добровольно признает твою власть над нею, ты поднимаешься в собственных глазах. И это не подхалимство: со всеми другими она независима и официальна, даже с московским начальством, приезжающим для обследований и инструктажа. Очевидно, что-то в нем, Борташевиче, есть особенное…
«А в самом деле, — подумалось Степану, — ведь не зря меня партия выдвинула. Тоже, значит, заметили, что чем-то я выделяюсь…»
Благодаря Наде он помаленьку стал чувствовать себя зрелым мужем, талантливым руководителем, крупной персоной, заслуженно владеющей великолепным кабинетом и великолепной секретаршей.
Он стал позировать: рассуждая о делах, вставал и прохаживался по кабинету, заложив руки за спину и глубокомысленно склонив лоб, как мыслитель; или, слушая собеседника, откинется на спинку кресла, вытянет пальцы и бесшумно наигрывает по столу, и сощуренными глазами рассеянно смотрит вдаль…
До сих пор он скупо высказывал свои мысли, считая их мало кому интересными; и вдруг они стали казаться ему значительными, достойными обнародования. Он полюбил выступать на собраниях и выступал пространно, любуясь своими речами и обижаясь, если ему говорили: «Короче». Полюбил представительство: сидеть в президиуме, возглавить комиссию, быть делегированным на какую-нибудь конференцию или хотя бы получить на нее гостевой билет стало для него делом самолюбия; не выбрали в президиум, не прислали билет — значит, не считаются с Борташевичем, недооценивают Борташевича. (Надя такие события тоже принимала близко к сердцу: «Как, вам не прислали билет?! Странно!») Он сшил себе новый костюм, купил скрипучий портфель и шелковые носки в шашечку.
Работа в конторе, налаженная его предшественником, шла гладко, про Борташевича говорили: «Справляется». Старые заводские товарищи, встречая его, восклицали (кто восторженно, а кто скептически): «Покажись; экий солидный стал! Ну, молодец. Смотри только, Степа, не забурей!» — а у жены его Тони спрашивали: как там Степан — не буреет? Тоня, смеясь и простодушно хвастая успехами мужа, отвечала, что буреет: до того забурел, что в молодежный клуб его не вытащишь, ходит только в «Деловой дом». Тоня продолжала работать на «Саломасе» и жить своей жизнью: комсомолка, рабфаковка, существо такое же угловатое и жизнерадостное, каким был Борташевич до знакомства с Надей. Пока муж сидел на вечерних заседаниях или в «Деловом доме», жена изучала науки либо пела с ребятами и девчатами песни. Борташевича она не называла мужем — это слово среди ребят и девчат считалось неприличным, мещанским, — она звала его по фамилии, а в разговорах с подругами — «мой парень». Детей у них не было, так как они постановили, что Тоньке нужно сначала окончить рабфак, «а уже потом пеленки и вся эта мура».