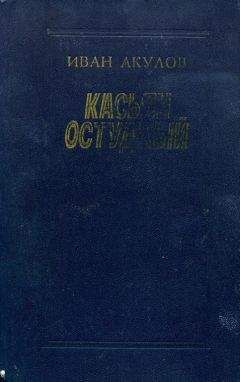— …таким-то манером вышел девятый день, или девятины, сказать. Срок, говорится, вышел, а уплаты нету. Ладно, думаю, — рассказывал веселый Федот Федотыч и все настойчивее постукивал костяшками пальцев по столу почти перед самым носом Аркадия, давно заметив, что тот плохо слушает его: — Дак ты, гостенек хороший, об чем все думаешь?
Но Аркадий не успел ответить: внизу захлопали двери, поднялся шум, топот.
— Тятенька, Арканя, — крикнула с лестницы Дуняша, — славильщики прибежали.
— Благость, привел господь, — Федот Федотыч поднялся, обнес себя степенным крестом и пошел к лестнице: — Реденько теперь бегают, и то сама мелюзга.
Следом за хозяином вниз спустились остальные.
Внизу за столом с уголка, вроде утесненно сидела Машка, Титушкова жена, и с большой сковороды навертывала на вилку блин. На плечи у ней накинут платок, и это совсем говорило о том, что она здесь в гостях. Аркадий сел рядом с нею на скамейку и стал разглядывать славильщиков, мальчишек и девчонок, вдетых разношерстно в большие пимы и шапки, материнские кофты и шали, концы которых были затянуты в узел на спине. Они долго уталкивались у дверей, перешептывались, шаркали рукавами по натертым шмыгающим носам. Потом старший из них в маломерной шубейке, с завернувшимися понизу полами, толкнул локтем соседа справа, потом слева и промолвил строго:
— Что вы как!
Мальчишки сгребли с головы шапки, перестали топтаться и, выпятив грудь и остановив глаза, замерли.
— Рождество, Христее-е… — распевно начал старший; стоявший справа от него, белоголовый и глазастый, звонко и чистосердечно подхватил, не слушая запевалу:
— Рождество, Христе, боже наш, восияй миру свет разума.
— Небо звездами, служащими… — разноголосо и усердно выпевали ребятишки, плохо зная и не понимая смысл молитвы.
— Тебя видим, солнце правды, — звенел белоголовый, и остальные, даже старший с опозданием повторяли за ним, не слушая и перебивая друг друга, но с прежним старанием и верой в знамение молитвы.
До конца было далеко, а у ребятишек совсем зашлось дыхание, им не хватало воздуха, они стали торопиться, чтоб как-то успеть на последнем выдохе досказать заключительные стихи:
— Тебя видим, солнце правды с высоты востока…
— Господи, слава тебе! С праздником, хозяин и хозяюшка! — одолели наконец ребята молитву и стали кланяться тоже торопливо и неглубоко, потому что все еще боялись сделать передышку и замешкаться друг перед другом. Им казалось, что они хорошо славили, пение их понравилось хозяевам, запереступали, начали опять ширкать носом, помогая себе рукавом обношенных одежонок. Глазенки засияли откровенным ожиданием.
Федот Федотыч с благоговейным вниманием слушал славильщиков, не присаживаясь. Он подтягивал про себя ребячьим голосам, вместе с ними торопился, терял дыхание, не понимая слов, и когда они кончили, тоже обрадовался вместе с ними, как трудному и успешно завершенному делу.
— Ну, молодчики. Ай, право, молодчики. Неси-ка нам, Любава, орешков да конфеток. Скажи вот, мал мала меньше, а тоже ведь: «С высоты востока».
Эти слова и для Федота Федотыча всю жизнь оставались загадкой, они неизменно напоминали ему далекое детство, и он, услыхав их однажды, снова и снова переживал светлую, хотя и беспричинную радость чего-то вечного, постоянного и непостижимого.
С повлажневшими глазами Федот Федотыч доставал из кармашка жилетки медяки и клал их в ребячьи открытые ладошки. Любава раздавала орехи по горсти каждому. Белоголовый оттянул карман своей старенькой лопатинки и следил за рукой Любавы. Только ему она дала две горсти, но орехи у него просыпались на пол, видимо, карман был дыряв. Мальчик опустился на колени и, боясь, что ребята убегут, оставят его, тихо заплакал и стал сгребать у них из-под ног орехи. Первые хлопнули дверью. Машка, сидевшая за столом в полусонном спокойствии, встрепенулась и, встав на колени вместе с мальчиком, начала помогать ему. Потом так же, не поднимаясь с колен, застегнула его на все пуговицы, надела ему шапку, пригладив ее обеими ладонями и приговаривая:
— Что же она тебе карманы-то не починила? Экая она. Вот я ужо скажу ей. Вот и скажу.
У мальчика от напряжения выступил на щеках влажный румянец, а верхняя губа совсем вспотела.
— Иди-ко скорей, а то упреешь, да на мороз-то. — Машка повернула мальчика и, поднимая ему куцый воротничок, проводила до самых дверей. Уж под руку ей выскочили еще двое, прятавшие на бегу свои подарки.
Проскрипели ступеньки на крыльце. Взлаяли привязанные во дворе собаки, и сделалось тихо, долго в избе стояло молчание — никому не хотелось нарушать того ласкового очарования, которое оставили после себя дети.
Машка тихонечко села на свое место, и Аркадий, все время следивший за ней, вдруг задал себе вопрос: «А что она такое, эта самая Машка? И Титушко, мало ли он перебрал их, а на этой споткнулся. Чего вдруг? Спиной, должно, заслонила. И верно, не спина, а полати».
— Ну что ж, девки, не пора ли варить пельмени, — сказал наконец Федот Федотыч. — Давайте-ка, правда что. А ты куда?
— Да мне пора и домой. — Аркадий хлопнул себя по коленям. — Пойду, наверно.
— Сиди давай. Сиди. У меня еще разговор к тебе будет. Нечасто бываешь.
— И ты, Марея, оставайся. Мы завсегда так. — Федот Федотыч сходил на кухню, принес оттуда бутылку с тертым заморенным хреном и начал взбалтывать ее, разглядывать на свет: — Вот взяла и ушла. А что не жилось? Тебе говорю, Марея.
— Да как, дядя Федот, уж до чего дошло, за ворота не выйди.
— Вот скажи на милость, где еще попадется такая ослушница. Ну оказия, да и только. Хм. Марея, ты ведь мужняя теперь. Муж у тебя, как у путной. Пусть и в отлучке. Ну разве годно мужней бабе одной слоняться ночами. Ведь он вернется: полгодочка — велик ли срок. А теперь и того не осталось. И ты думаешь, я ему не скажу о твоих выходках? Думала ты сама-то собой?
— Титушко, дядя Федот, после суда уж сказал мне, держись-де ближе к пролетаям. А чего такого — я и в мыслях не держу.
— Гляди, гляди, Марея. Тебе видней. А то вот при чужом человеке скажу: надумаешь, приходи и живи. Само собой, без дела у меня жить не будешь, это знаешь.
— Как поди.
— С Титушком потом пойдешь — иди. Отпущу как дочь. Все дам для корня.
— Уходила ведь — чо не дал? Может, и не наймовалась бы в чужой-то извоз, к Ржановым. Вишь, как вышло. За чужое.
— Не распущай кулаки.
— Я к тому, не больно же шибко унесла от вас.
— А ты заикнулась?
— С радости, до того было?
— С дурости.
Машка в своих пререканиях зашла в тупик и, взяв угол платка в горсть, прижала к губам. Глаза смущенно улыбались.
— Вот и сказать больше нечего.
— Да я, дядя Федот, и без обиды. Жила и жила. А советчики стали говорить, что надо тебе, Марья, быть в передовой бедноте.
— И что это выходит?
— А я знаю?
— Где-то она и есть эта передовая беднота, да только не у нас в Устойном.
— Вот это резонно сказал Федот Федотыч, — поддакнул Аркадий. — Где-то. А у нас одни охаверники.
— А ты? — Машка искоса, но остро поглядела на Аркадия.
— Что я?
— Ты в Совете. — Плотное лицо у Машки совсем проснулось, сгустившиеся под глазами мазки с побудительной женской робостью выдали ее задорную настойчивость, и под влиянием этого нежданного и требовательного упрека Аркадий пыхнул накопленным:
— Да, избран в Совет, но я не бедняк и никогда не был бедняком. Плохо мы жили с матушкой, а кто лучше-то жил после военных да голодных лет! А теперь земли взахлеб, до горла, руки — вот они, и какая такая беднота? Меньше спи, рук не жалей, в башке почаще скреби, чтоб добрые мысли там не залеживались.
Он в запальчивости смял свою смазанную маслом прическу, побледнел и, видимо поняв, что круто укипел, виновато понизил голос:
— Мне это в большую обиду, когда говорят, будто Оглоблин бедняк.
— Ах ты, варнак. Ах ты, варначишко, — ликовал Федот Федотыч: — Ведь вот он — ну кто он мне? Да никто, можно так сказать, а вся кровь в ем моя. Понятная мне и, считай, родная.
В меру жирные, мягкие пельмени ели под облепиховую наливку с хреном, уксусом и черным перцем, и здесь, за столом, Федот Федотыч выложил, что за плевые деньги отдает Аркадию конную жатку.
— А, где наша не пропадала, однова живем, — удало воскликнул Федот Федотыч. — Берешь, понимать надо? Мы, Аркаша, в ком силу чуем, — извиняй, не любя любим. Вот он каков, Федот Федотыч Кадушкин. Еще раз с праздничком рождеством Христовым — опп!
Дома стояли непоеные кони, и Аркадий заторопился из гостей, не дождавшись ряженых. Вместе с ним засобиралась и Машка. Аркадий надел полушубок и хотел выйти вместе с нею, но Дуняша задержала, рассовывая по его карманам гостинцы матери Катерине, без конца ворковала да ворковала, и Машка ушла. Но за воротами он столкнулся с нею и догадался, что она ждала его. Если бы Аркадий имел немножко времени на размышление, он, вероятней всего, направился бы в свою сторону, но тут, шалый от выпитого, развеселенный бездумной лихостью, ловко прошелся по пуговицам Машкиного пальто, распахнул всю ее себе навстречу и стиснул так неожиданно и крепко, что она изломалась в пояснице и ойкнула. От платка ее незнакомо и навязчиво ударило репейным маслом, он губами нашел ее открытые в сильном дыхании губы и стал целовать их, еще пахнущие сладкой облепихой. Когда на ее спине предательски-податливо хрустнули какие-то привязки, Машка, до этого чувствовавшая себя надежно собранной, вдруг потеряла силу и по-хмельному ослабла в Аркашкиных руках. А он, целуя ее душащими поцелуями, требовательно мял ее и расстегнул свой полушубок. Теперь оба они знали, что их могут увидеть, но были уже спаяны одним теплом и сознавали, что перешагнули через что-то непростое и, радуясь этому, продолжали стоять и обниматься.