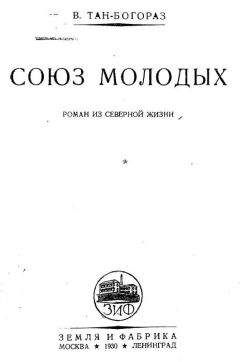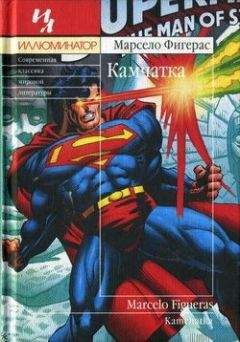— Нечего делать, владей, — вымолвил Викеша. Бросил серебрянку, а отцовское ружье надел через плечо на отцовский балахон.
После того Викеша оделся и смело пошел из избы. Снаружи было тихо, светало. Солдаты спали, во оба часовые стояли на прежних местах.
Викеша прошел неспеша мимо того же пулемета и даже окликнул часового северным кличем «береги». Никто его не тронул. Выскочила только приблудная собака и с лаем бросилась ему под ноги. Колымские собаки, подражая хозяевам, крепко не любили карателей. Викешина кухлянка-балахон пахла, конечно, карателем Авиловым.
Викеша пнул собаку ногой и выругался.
— Цыц, проклятая, — сочувственно цыкнул на собаку часовой. Ибо и движения и голос Викеши были, как две капли, похожи на отца. Именно так случалось и Авилову отбрасывать пинком приблудных и злобных собак.
Викеша прошел сквозь обоз так же точно, как перед тем Авилов, и спустился на реку, вышел на лед и пустился через реку, собираясь подняться повыше и потом повернуть обратно и, минуя Черноусову, вернуться на тундру к Горлам.
Максолы опять улеглись, а Аленка сидела и думала: «Дура я, дура!»
Когда рассвело, она вышла на двор и с каменным лицом стала запрягать свою собственную девичью нарту.
— Куда ты? — спросила подруга Феня Готовая.
Алена почти против воли подняла руку и показала на восток.
— Так ведь Викеша заказывал, чтобы не ездила ты, — сказала Готовая.
— Блюди своего мужика! — крикнула Аленка с голодными злыми глазами. — А моего не замай!
Красавица Фенька жила с Микшей Берестяным, и на весну у них ожидалось великое счастье, сокровище северной жизни — ребеночек.
И так, не прощаясь с машинами, не докладываясь начальнику Микше, свистнула Аленка на собак и поехала искать, догонять своего отчаянного друга. И так же, как Викеша и Федот, она ночевала на тундре без огня, без питья и приехала на Черноусову тоже через сутки, рано на свету. Привязала собак на задворках и пошла по привычной тропинке к дому Василия Гуляева и подергала старую дверь за кожаный короткий поводок.
Подергала и вспомнила ребячью загадку и вдруг усмехнулась: старую старуху за пуп, да за пуп.
На душе у нее было смутно, но скорее радостно. Все-таки догнала, нашла.
Вышел Василий Гуляев, поглядел и далее отмахнулся.
— Чего ты, дикоплешая, откуда?
И Аленка ответила приказом:
— Викешу позови!
Ей почему-то казалось, что милый вот тут, в этом привычном, безопасном, укрывающем доме. Василий замялся.
— Сейчас позови! — топнула Аленка ногой. — Не спрячете его!
— Уж спрятали Викешу твоего, — проворчал Гуляев. — И тебе то же будет. Суетесь, куда не след.
Аленка схватилась за сердце, потом перемоглась, и сказала, задыхаясь, будто быстро взбежала на подъем:
— Живой?
— С вечера стрелу не слыхали, — ответил неохотно Василий. — Живой.
— На кого покидаешь?.. — голоснула Аленка и сразу оборвала. — Постойте, погодите, к полковнице пойду!
Полковница, колымская княгиня, Варвара Алексеевна, заехала к старухе Макриде в ее вдовью усадьбу. Вдовья Макридина выть была вроде девичьей, только она возникла после смерти хозяина мужчины. Здесь тоже было женское царство и у бабки Макриды, когда она еще была теткой Макридой, рождались лет двадцать подряд пригульные вдовьи ребята. Выть была большая, даже огромная. В разных углах Макридиной усадьбы копошились племянницы, внуки, какие-то сопливые мальчишки с оборванной макой позади.
Ее спрашиваясь никого, Аленка смело прошла в переднюю горницу.
— Челом, командирша! — сказала она по колымскому обычаю, касаясь рукою земли.
— Здравствуй, красавица! — ласково сказала Варвара Алексеевна.
Аленкино лицо поражало. Ее огромные глаза горели и дерзостью, и мукой, и бредовым безумием.
— Чья ты, милая? — продолжала Варвара Алексеевна.
«Чья» означает по-колымски вопрос о фамилии.
Но Аленка предпочла понять этот вопрос прямее.
— Викешина жальчиночка, — сказала она громко. — Викеши максола, твоего, стало быть, пасынка, а мужа твоего родимого сынка.
Варвара Алексеевна молчала, пораженная.
— Не убивайте его, — страстно молила Аленка, — все берите, только Викешу отдайте! Мы уйдем далеко, в чукчи, в Амирику, за Черный пролив, владейте Колымскую землю.
Варвара Алексеевна широко усмехнулась.
— Вишь ты, какая горячая! Ну, пойдем выручать твоего кавалера!
Они проходили по той же обычной тропинке, сквозь обоз, мимо пулемета, близко от часового, стоявшего все так же неподвижно.
— Полковника не видел? — спросила мимоходом княгиня часового.
Авилов обычно вставал на заре и до зари делал обходы постов, разговаривал с часовыми, потом спускался на реку или уходил в ближайший лес.
И на этот раз часовой словоохотливо ответил:
— Полковник прошли на свету, изволили спуститься на реку.
Княгиня засмеялась.
— Видишь, какая незадача. Ну, все равно, пойдем. Сокол слетел, посмотрим твоего соколенка.
Но в избе они нашли не соколенка, а именно старого сокола. Он сидел на лавке с взъерошенными перьями и дикими глазами смотрел на снятую дверь и обнаженный нож, дрожавший в столовой доске.
Бывалая певица-девица свистнула по-мужски.
— Вон как! — сказала она. — Это молодой улетел, а старый-то остался…
— Не крушися, Викентий, «мужичка» упустил, так вот тебе «женка», из того же гнезда[49].
Она взяла молоток и гвозди и быстро починила сбитые надолбы и дверную пяту, потом протолкнула онемевшую Аленку в меховую комору и дверь заложила бруском.
Авилов внезапно вскочил.
— Я догоню его! — крикнул он в дикой ярости. — Моих рук не уйдет!
Он выскочил, как буря, на двор, дернул нарту, припряг свою дюжину собак и ринулся вниз по косогору, — нарта и гонщик и свора помчались, как волки по следу оленя.
Проехали на тундру, понеслись по гладкому убою, спрессованному ветром и уже остекленному полуденным весенним припеком.
Собаки неслись, как угорелые. Им передались безумие и ярость господина. Час… другой… Белая тундра широка, но оленя, за которым несется эта дикая стая, не видно нигде. Мало ли места на тундре! Найти ускользнувшего максола так же невозможно, как в снежном буране выпустить белую пушинку и потом уловить ее.
Еще час, два часа… Или Авилов думает налететь на самые Горла и смять одним ударом осиное гнездо злокозненных максолов? Не по себе осину гнешь, товарищ полковник…
Пестряк, в передовой упряжке думает то же. Он оборачивает на бегу свое злое рыло в сторону Авилова и словно качает головой.
— Пестряк! — бешено вскрикивает полковник.
Оборачиваться на бегу считается нарушением собачьей дисциплины. Авилов с размаху бросает тормозную палку в голову преступному слуге. Острое железо падает на голову собаки и раскалывает череп, как ореховую скорлупу. Пестряк валится, убитый на месте, но упряжка в паническом ужасе несется вперед, увлекая с собой его труп.
Опомнился Авилов. Он остановился собак, выпряг и отбросил Пестряка и повернул назад, вместо двенадцати на одиннадцати собаках. Теперь он больше не погонял упряжку. Но испуганные смертью вожака собаки летели, расстилаясь по снегу, как птицы.
Авилов приехал под вечер и подъехал к своей квартире. Лицо его было так мрачно, что никто не посмел задать ему вопроса, и даже Варвара Алексеевна, вышедшая ему навстречу, тотчас же убралась к собственной хозяйке Макриде.
Авилов прошел в горницу, зажег свечу и поставил на стол. Ему хотелось есть и пить, он достал с поставца блюдо холодной оленины и налил привычную чарку, на этот раз одну. Подкрепившись, он долго сидел и смотрел на стену, потом отодвинул засов и выпустил Аленку в горницу.
— Хочешь есть? — спросил он отрывисто.
— Э-э, хочу, — сказала Аленка откровенно к спокойно. — Пить тоже хочу, — прибавила она. — Вина не наливай, жгота[50] с него. Дай простой воды.
И когда она попила и поела, Авилов спросил ее теми же словами, что давеча Варвара Алексеевна:
— Теперь говори, чья ты?
— Невестка твоя, — ответила Аленка с задором. — Молодчика Викеши любимая кровинка.
Авилов даже вздрогнул. В душе шевельнулась забытая стертая память. Щербатая Дука… Это было другое лицо, другая фигура. Но женщина была такая же «жальчинка» и «кровинка», плоть от плоти и кровь от крови любимого дружка.
Женщина дикарка отдается мужчине наивно и просто, но раз навсегда, до конца, без остатка. И в этом есть что-то звериное. Но звериная мать отдается сполна не мужу, а детям. В дикарке из матери просто родится любовница-мать, и другу она отдает чувство половое и чувство материнское.
— А ведь Викеша-то ушел, — сказала Аленка ликующим тоном. — Али ты сам отпустил?