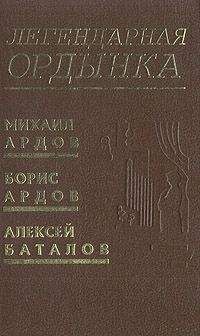возражаете, я теперь буду Вас так называть. Можно? — Она погладила его по голове, потом прижала
к груди и прошептала: — Спасибо тебе, сын мой, у тебя благородное сердце, недаром наш Гургенчик
любил тебя, как родного брата.
* * *
Перед обедом Виктору захотелось пробежаться на лыжах.
Справа тянулся густой хвойный лес, а слева, до горизонта, сверкала голубыми и золотистыми
солнечными зайчиками снежная равнина. Он шел на лыжах и поглядывал на покрытые снегом
тяжелые ветви сосен и елей. Вдруг ему вспомнились пушкинские строки: " ...там чудеса; там леший
бродит, русалка на ветвях сидит. ." — Хорошо бы забраться в какую-нибудь лесную избушку на
курьих ножках, — подумал он, — и, как мечтал поэт Саша Черный, проспать там без снов и,
любопытства ради, проснуться лет через сто...
Эти невеселые мысли пришли к нему не случайно. Прошедший год был для него трудным. В
январе его назначили начальником механического цеха — самого крупного на заводе. Работы было по
горло, он пропадал на заводе с утра до вечера, хотел доказать, что в нем не ошиблись. А тут еще
очередная весенняя сессия в заочном институте. Учился он все эти годы нормально, переходил с
курса на курс без "хвостов". Но на этот раз ему не повезло, не сдал экзамен по политэкономии.
Новым и, пожалуй, самым тяжелым ударом судьбы в том году было для Виктора и Маши
окончательное заключение видного новосибирского профессора-гинеколога о том, что Маша не
сможет больше стать матерью. Узнав об этом, Маша долго была в таком угнетенном состоянии, что он
боялся, как бы она не наложила на себя руки. Однажды он ей сказал: — Хочешь усыновим какого-
нибудь очаровательного пацана или курносую девчушку? — Она ничего не ответила, только глубоко
вздохнула и зябко потуже натянула на плечи пуховую шаль. А он в тот момент с грустью подумал: —
Два приемыша в одной семье!
О тайне своего происхождения он Маше до сих пор не рассказал. Почему он и сам не мог себе
этого толком объяснить. Он не однажды хотел ей рассказать свою родословную, но всякий раз его
сдерживала мысль о том, что сразу же что-то в нем сломается и рухнет, как дерево, у которого
подрубили корни.
...Виктор взглянул на часы: близился час семейного застолья, посвященного юбилею Арменака
Макаровича.
Он обогнул маленькое, похожее на неглубокую тарелку замерзшее озерцо и широким шагом
заскользил по своей прежней лыжне в обратную сторону.
* * *
За праздничный стол Татьяна Михайловна и Арменак Макарович пригласили и хозяев избы, с
которыми все эти годы жили в мире и дружбе. Виктор и Маша были с ними тоже давними знакомыми.
Хозяин избы Тимофей и его жена Нюра, как и почти вся их деревня, работали на заводе. Тимофей,
однорукий инвалид войны, работал там вахтером, а Нюра — уборщицей. Они принесли с собой к
столу боченок квашеной капусты, чугунок ароматной, прямо из печи, вареной картошки и любимый
Арменаком Макаровичем маринованный чеснок. По случаю дня рождения Тимофей принес еще
бутыль самогона, настоенного на какой-то местной ароматной травке, которая, по его словам,
укрепляет жилы и лечит от всех болезней. В подарок Арменаку Макаровичу Нюра поднесла
маленький образок божьей матери в потемневшем от времени серебряном окладе.
Первый тост предложил Виктор, он пожелал имениннику богатырского сибирского здоровья и
долгих лет жизни, и прочитал написанное им поэтому случаю небольшое стихотворение, в котором
желал дорогому Арменаку Макаровичу обрести в его славном жизненном марафоне второе дыхание.
Потом поднялся Тимофей.
— Я человек малограмотный, — сказал он, — а потому точно не знаю, что это за слово, которое
назвал Виктор Георгиевич, но раз он так сказал, значит так надо. А мой тост будет за Победу и нашего
Верховного главнокомандующего, дорогого товарища Сталина, который сделал Гитлеру полный
капут. Ура!
Поднося к губам свою рюмку, Татьяна Михайловна грустно посмотрела на увеличенную и не
очень хорошо отретушированную местным художником фотографию Гургена, висевшую в красном
углу избы и лишь потом ее выпила. Когда все выпили, Арменак Макарович вздохнул, помолчал и,
положив руку на плечо Тимофея, сказал:
— Капут Гитлеру, Тимоша, сделал не один Верховный главнокомандующий. Победу, друг мой,
завоевал и ты, и мой Гургенчик, и Витя, и Нюра, и Маша. Все понемногу, весь народ... Ты меня
понял?
— Понял, — мотнул головой Тимофей, — я это понятие имею. Но... товарищ Сталин всему голова!
Если б не он, фрицы и досюда бы дошли. Хана была бы без него.
— Дошел бы, да не дошел! — звонко сказала Нюра, желая поддержать Арменака Макаровича,
которого она глубоко уважала за его седины, всегда неторопливую вдумчивую речь и заграничные
слова, которые она хотя и не понимала, но которые вселяли в нее еще большее к нему уважение.
Маша предложила тост за всех погибших на войне героев. Выпили, как и принято в таком случае,
стоя, не чокаясь. Потом Нюра принесла гитару и под аккомпанемент Виктора, негромко завела свою
любимую песню:
— По тихим степям Забайкалья, где золото роют в горах...
Нюре пытался подпевать охмелевший супруг, но на этот раз у них семейного дуэта не получилось
и Тимофей безнадежно махнул рукой, встал и сказал:
— Извините... Спасибо, конечно, за компанию, а я, однако, пойду. . чуток прилягу. .
Нюра подбежала к нему, подхватила его под руку и смущенно сказала:
— Вы уж извините его, бога ради, он ведь у меня раненый и контуженый...
— Что Вы! Что Вы, Нюрочка! — подняла руки Татьяна Михайловна. — О каком извинении Вы
говорите! Проводите Тимофея Федоровича отдохнуть и приходите к чаю, мы Вас ждем.
У дверей Тимофей оглянулся и хрипло запел:
— Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова-а-а...
— Иди, иди, чертушка безрукий, — выталкивая его за дверь говорила Нюра. Слово "нальем” он
пропел уже за дверью.
Арменак Макарович и Виктор вышли на веранду покурить. Некоторое время они молча курили.
Наконец Арменак Макарович задумчиво проговорил:
— Я, Витя, хочу с тобой поговорить по душам. У меня, сынок, она болит, ...очень болит. . Тебе я
верю, а потому хочу облегчить душу. . Я, как ты знаешь, человек беспартийный и твой отец, глубоко
уважаемый мною Георгий Николаевич, в шутку, а может быть, и не в шутку, называл меня "ББ".
— "ББ"?! — удивленно спросил Виктор, а почему?...
— В его переводе это означало — беспартийный большевик, — улыбаясь проговорил Арменак
Макарович. — Ты не смейся, — продолжал он, — твой отец кое-чему меня научил. Я многое
передумал после бесед с ним. Ему было легче жить, чем мне, у него была идея, которой он посвятил
всего себя. Это прекрасно. Без веры жить нельзя. Поэтому я очень ему завидовал...
— А у Вас, разве нет веры, Арменак Макарович? — спросил Виктор.
Арменак Макарович глубоко вздохнул в себя дым самодельной папироски, помолчал и медленно
проговорил:
— Откровенно говоря, Витя, моя вера без глубоких корней, моя вера — это вера в таких людей, как
твой отец... Мне хочется верить, что они смогут достичь своих благородных целей. Ты меня
понимаешь?
— Понимаю, — кивнул головой Виктор.
— Может быть, я не очень четко излагаю свои мысли, — проговорил Арменак Макарович, — но,
чтобы победила идея, которой посвятил себя твой отец, нужно, чтобы она запала в душу народа.
Понимаешь? В самую его душу!
— Вы имеете в виду Тимофея? — спросил Виктор.
— Вот именно! — вздохнул Арменак Макарович.
— Ведь философия таких, как он — философия люмпена: чем хуже, тем лучше. Он и такие, как
он, отлично помнят, как в тридцатые годы сажали в тюрьмы больших и малых начальников. Их
обвиняли во всех смертных грехах, во всех народных бедствиях и называли врагами народа. А народ
— это Тимофей. А борец за его счастье — товарищ Сталин. Именно такой философией и была
унавожена почва тех страшных лет.
Виктор слушал Арменака Макаровича и его одолевали сложные чувства. В последнее время он,
дитя трех пятилеток, как называл его в шутку Георгий Николаевич, стал о многом задумываться.
* * *
На веранду вышла Маша и сделав игриво книксен, улыбаясь проговорила:
— Самовар на столе, чай подан, господа... Прошу.
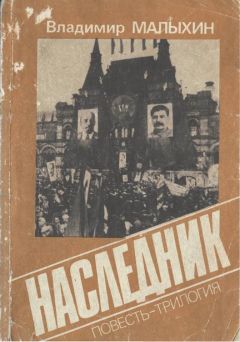
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)