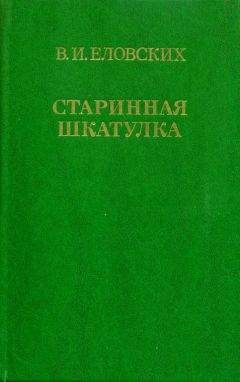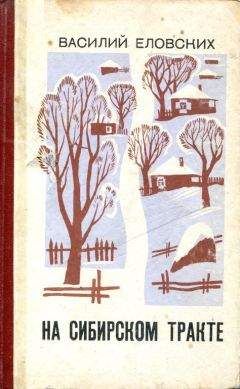Егоровны в избе не было. Петька сказал, что она ушла на работу, и, громко шмыгая носом, выставил на стол жареную картошку, стакан молока и ломоть ржаного хлеба.
— Ешьте, — сказал каким-то сдавленным голосом.
— Садись и ты.
— Я уже поел.
— Что ж ты так рано встал? Спал бы себе да спал.
Молчит. Глядит угрюмо куда-то на пол, будто недоволен мной. Но я понимал, что это у него от большой стеснительности. Редко видит новых людей. А я к тому же в очках. Не старик еще — и в очках, чудно ведь! И непонятно. В карманчике моего кителя две авторучки (Петька то и дело поглядывал на них), это тоже кажется ему необычным. Хоть бы одна, а то две — почему? Да еще такие блестящие. Видимо, у него много было этих «почему».
— Ты не хочешь мне ответить?
— Уроки подготовить надо.
— А школа у вас в Южакове?
Утвердительно мотнул головой.
— Один ходишь?
— Почему один? С Нинкой Черных.
— Не боитесь в темноте-то?
Опять молчит. Но уже по-другому молчит — не хочет признаться, что ходить, конечно же, боязно и неприятно: морозище, тьма кромешная, сугробы, застывшая таежная тишина. И кажется, что кто-то из темноты все время пялит на тебя глаза.
— Может быть, тебе хочется посмотреть мои авторучки? На погляди.
Он недолго сидел. Вдруг заплакал один из малышей. Петька посадил его на горшок. Сделав свое дело, мальчишка встал и почему-то еще сильнее заревел. Петька начал его стыдить-уговаривать:
— Ну, как те не стыдно? Чего ты базлаешь? Такой большой — и ревешь. — Петька говорил требовательно, бойко, не так, как со мной. Правда, и сейчас чувствовалось какое-то легкое напряжение в его голосе (я все-таки тут, на глазах).
Мальчишка плакал и плакал, вздрагивая всем телом.
Неделю назад на тюменском базаре мне удалось купить (по бешеной цене, конечно) полкилограмма яблок. Одно из них, небольшое, с розовым боком, я прихватил на всякий случай с собой. Помыл яблочко и подал мальчишке. Но он, наверное, никогда не видел яблок и воспринял подарок как скучную игрушку — поглядел, потрогал и отвернулся. Петька откусил кусочек и сунул мальчишке в рот, и тот, заметно удивившись и перестав плакать, громко зачмокал. И, чмокая, весело и благодарно глядел на меня: дескать, ладно сделал, давай и дальше так.
Бригадира я встретил у свинарника, он рассматривал покосившуюся, неплотно закрывавшуюся дверь и что-то бормотал, бормотал про себя, вроде бы даже спорил с кем-то. Потом сердито плюнул и замолк.
Утро выдалось морозное и по-вчерашнему ветреное, на улице было уныло и как-то неуютно. Но вот послышались голоса. Женщина во дворе ближнего дома стала за что-то ругать корову. Ругала громко и весело:
— Дуреха ты, дуреха! Ну, куда тебя понесло? Что ты тут наделала?
Где-то — тоже во дворе — мальчишка звал монотонным голосом:
— Нюр-ка!
Корнеев спросил, как мне спалось. Сказал, что у него ночью опять болела нога, и добавил:
— Как я устал от всего.
Лицо у него бледное, измятое, глаза беспокойно перескакивают с предмета на предмет.
К нам подошла Егоровна. Подошла как-то неожиданно, незаметно.
— Слушай-ка, Санко. У Дуняшке на куфне стекла все поразбиты.
— Ну!
— И не может стекол найти.
— Ну, а я-то тут при чем?
— Никто и не говорит, что ты при чем. Надо бы дать ей стекол-то.
— А я где их возьму?
— Достань где-нибудь.
— Пускай у стариков поспрашивает.
— Да нету ни у кого.
— Ну и у меня тоже нету.
— Да нельзя же так, Саня.
— Что нельзя?
— Слушай, Александр. Она же хворая. А ты…
— А каким местом она раньше-то думала?
— Когда раньше? Это же вчерась ее чертенята набедокурили.
— Пусть пока чем-нибудь заделает. Картонками или чем-то там.
— Да заделывали. Все равно дует.
— Ну, нету у меня стекол, понимаешь?
— Она же пластом лежит.
— Вот пристала, будь ты неладна!
— Что-нибудь сделай, Саня. Ты же все можешь.
— Да где там все! — Он недовольно отмахнулся.
— Шибко уж дует у ие.
Корнеев молчал. Но молчание было особое. И мне, и Егоровне стало ясно, что, конечно же, поищет и, что может, сделает.
— Беспокойная старуха, — сказал я, когда Егоровна отошла от нас.
— Да какая же она старуха! Ей еще и пятидесяти нету.
— Как?! И такой внук?
— Вы это про Петьку? Это же сын ее.
— А девочка?
— Верка? Та — внучка. Вид у Егоровны, конечно, не того… Да и с чего бы она выглядела молодой-то? Всю войну вкалывала, как окаянная. Она баба очень старательная. Года два назад дочь похоронила. Веркину мать. А зятя на фронте убили. Муж у нее пьянчужка был. Все, бывало, на взводе. Первая-то жена бросила его. Ну, а Егоровна, видно, пожалела. В общем, вышла за него. Хотела исправить мужика, но, говорят, горбатого могила исправит. Все равно пил он. И при старой жене закладывал. И при новой. Так пьяный и замерз. Поехал из Южаково от свояка живой. А лошадь привезла его на санях к нам в Рыжовку мертвого. Еще до войны дело было. И сейчас вот двоих воспитывает она. Хорошая баба. У нас везде по двое да по трое ребятишек. Мужиков нету, а детишек полно.
Я дивился: Корнеев и Егоровна разговаривают между собой вроде бы не очень-то любезно, даже поругиваются, а заглазно хвалят друг друга.
Корнеев хохотнул:
— Она у нас навроде второго бригадира, ей-бо! Ко мне, пожалуй, меньше ходят, чем к ней. Если горе какое — к ней бегут. Радость какая — опять же к ней. И ведь доброта и внимание не по долгу службы. Когда эта Егоровна приходит ко мне домой, то дочка моя, ей около пяти, даже начинает прыгать от радости. И орет как сумасшедшая: «Пришла, пришла!» Жена даже злится. Ревнует. Смешно, правда?
Я заскочил в дом Егоровны, чтобы взять блокнот, который оставил на столе. У входной двери стоял пузатый мальчишка и вяло, как бы нехотя, ревел. Рядом валялись его штаны. Я испугался, что мальчишку может продуть, и торопливо захлопнул дверь.
Верка спрашивала у мальчишки:
— Ну, чо ты ревешь? Чего тебе надо? Ну, скажи хоть.
Егоровна копошилась у печи, гремя ухватом. Я оттащил малыша подальше от двери. Он ревел и ревел, все так же нехотя, будто одолжение кому-то делал своим ревом. Дескать, ладно, так и быть уж, пореву.
— Что случилось? — спросил я. — Почему ты плачешь?
Мальчишка не глядел на меня.
— Счас мы его успокоим, — сказала Егоровна. — Отойдите-ка.
Вздохнув, она присела на корточки и чуть выпятила вперед руки с опущенными кистями. «Как лапки у собаки, которая служит», — подумал я. Быстро-быстро махая к себе руками, Егоровна затараторила:
— Бери меня, бери меня! Бери меня!
Мальчишка всхлипнул еще раза два-три, потом замолк, ошалело поглядел на женщину и вдруг… засмеялся.
А Егоровна, наступая на него, продолжала с еще большим азартом:
— Бери меня! Бери меня! Бери меня!
Слегка отстранившись, мальчишка стал быстро и весело сучить ножонками, отмахиваться и громко смеяться. Он прямо-таки закатывался со смеху. И, как мне показалось, в смехе его было не просто веселье, но и удивление, забава.
— Любят вас ребятишки, Егоровна, — сказал я.
— Тут не в любви дело. — Она улыбалась. Ей и самой было весело. — Я на его языке с им говорила. Не понимаете? Вот когда ему хочется к кому-то, то он так же делает своими ручонками. И что тут получается? Я прошу, чтобы он взял меня на руки. Ясно? Не я его, а он меня. И он, конечно же, понимает, что взять меня, такую большую, не может. Где там!.. И ему смешно от этого. Они хоть и маленькие-маленькие, а все-о-о понимают.
Мне тоже стало весело.
В избу влетела девочка лет десяти в старой мужской телогрейке, подпоясанной веревочкой, и испуганной скороговоркой сообщила, что меня кто-то вызывает к телефону.
Звонил секретарь редакции. Мы поговорили о том, о сем, по-репортерски быстро и деловито, и секретарь спросил, сколько оставить в газете места для моей корреспонденции о Рыжовке.
— Три колонки до подвала. Только материал будет положительный. Заголовок — «Свинарка Егоровна».
1980 г.
© «Советский писатель», 1987.
1
Светало. Неохотно, тягуче светало, как это бывает глухой зимой на севере; все кругом покрывалось какой-то странной жидкой синью, куда ни глянь, везде сине: и небо, и березки, и снег. Кажется, даже сам воздух пропитывался этой немой тревожной синью. Ни ветерка, ни звука — тишь. Тишь! Дорога виляла возле деревьев и тянулась неведомо куда, проложенная бог знает кем и бог знает когда, малозаметная, почти непроезжая. Титов шагал и шагал на своих новеньких спортивных лыжах-скороходах (прелесть какие лыжи теперь делают), временами даже бежал неторопко. Подумал удовлетворенно, что еще год назад страшно уставал от бега.