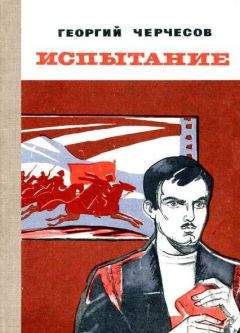— Не понимаю, — честно призналась Зарема.
— Я дорогу показал мужчинам аула, — спокойно пояснил Хамат. — Тем, что нуждаются в твоей помощи. Да вместе с болячками имеют они и другую напасть. Пережитком, что ли, вы, ученые, называете ее?..
… Еще больше изумился Тотырбек, услышав о поступке Хамата. Он напрямик сказал ему:
— Я горжусь тобой, мой дядя. Ты исправил ошибку, которую допустил много лет назад.
— Что ты имеешь в виду? — настороженно поглядел племяннику в глаза старец.
— Ты не разрешал Зареме приблизиться к нихасу, — сказал Тотырбек. — Не оттого ли сегодня ты так поступил, что понял, как был неправ тогда?
Хамат развел руками, в негодовании уставился на племянника:
— Умный ты, начальником стал, а простые вещи не понимаешь… Как ты можешь сравнивать тот случай и работу Заремы? Врач старается помочь людям, отогнать от них болезнь и смерть… А там что было! Женщина должна всегда оставаться женщиной. А она стала наставлять стариков-горцев! И не напоминай мне о том дне! Хочу забыть его!.. — он гневно отвернулся от племянника, недовольно бормоча. — Ишь ты, сравнил…
Тотырбек пожал плечами, подумал: да, долго еще нам придется ломать прежние представления о том, что такое прилично и что такое неприлично…
У добрых вестей сильные крылья. Слух о возвращении в Хохкау Заремы и Тамурика долетел и до Ногунала. Дахцыко самому ох как хотелось поскорее увидеть и обнять внука, но он для виду стал артачиться, ссылаясь на необходимость завершить копку картофеля. Но Дунетхан, пожалуй, впервые в жизни проявила характер и твердо заявила, что завтра хоть пешком отправится в Хохкау.
Дахцыко притворно вздохнул и развел руками:
— Ну, раз все этого хотят, поеду завтра с женой на роди ну, — не будучи уверенным в том, как встретят его ученая Зарема, от которой он некогда отказался, и взрослый теперь Тамурик, который вряд ли запомнил своего деда, ибо видел его только раз и то маленьким, гордый Дахцыко осторожно заметил: — По смотрю, как там живут земляки, — и этой репликой как бы да вал понять, что желание побывать в Хохкау вызвано у него отнюдь не приездом дочери и внука.
А у самого с каждым знакомым поворотом, приближающим его к аулу, сердце стучало все сильнее в тревожно-сладостной истоме. «Внук! Внук!» — выбивали колеса арбы по горной дороге. «Тамурик! Тамурик!» — насвистывали птицы в лесочке, протянувшемся по покатым склонам. «Скорее! Скорее!» — шумно напевала речка, бежа с арбой наперегонки…
Вот последний поворот — и Хохкау предстал им как на ладони. Но что это? Почему Дахцыко остановил коня на окраине аула? Боится, что теперь дочь и внук не пожелают его признать? Дунетхан во все глаза смотрела на мужа. Дахцыко, боясь встретиться с ней взглядом, одними губами выдохнул:
— Слазь…
Дунетхан внезапно осенила догадка, отчего Дахцыко сразу не направился к своему хадзару — ему хочется, чтобы весь аул видел, как дочь встретит его вдали от дома и поведет к воротам желанного и долгожданного родителя. А для этого надо, чтобы весть о его приезде дошла до нее раньше, чем Дахцыко — до калитки. И Дунетхан слезла с арбы следом за мужем и тяжко ступила занемевшими от долгого сидения ногами на такую знакомую каменистую землю…
Вскоре они оказались в окружении улыбающихся, радостных аульчан. Дахцыко степенно здоровался, неторопливо отвечал на многочисленные вопросы, а глаза его поймали фигурку мальчугана, бросившегося со всех ног к хадзару Дзуговых, и он ждал, и с облегчением вздохнул, когда на пороге дома показались худенькая женщина, в которой он сразу узнал дочь, и высокий, чернобровый юноша… Тамурик! — предательская пелена заволокла ему глаза. Дахцыко старался быть спокойным и сурово поглядывал на земляков, будто ничего необычного не происходило, будто дочь его не была похищена и не пропадала многие годы вдали от дома. Но голос, блуждающие глаза, то и дело натыкавшиеся на фигуры дочери и внука, да праздничная одежда выдавали его взволнованность и радость.
— Счастлив вас видеть в добром здравии, — то и дело повторял он традиционное приветствие подходившим к нему односельчанам.
Он спокойно держался и тогда, когда Дунетхан обняла задрожавшими руками дочь, и тогда, когда глаза ее жадно вырвали из толпы Тамурика, руки потянулись к нему, и прерывающийся голос произнес:
— Тамурик, иди же обними свою бабушку! Вот я перед то бой!..
Но когда Тамурик, вырвавшись из объятий бабушки, встал перед дедом и, широко улыбаясь, произнес:
— Здравствуй, родной дед! — вот тут глаза и голос предали старого Дахцыко, тут он и не устоял и руки его сами по себе раздвинулись и обхватили внука порывисто и крепко, точно боясь, что Тамурик может опять исчезнуть на долгие годы…
Вечером, на кухне, прислушиваясь к шумным голосам гостей, заполнивших дом, Дунетхан шепнула дочери:
— Заремушка, пора и тебе устраивать свою судьбу. Есть и с кем. Все знают: за тебя готов жизнь отдать Тотырбек. Он сде лает тебя счастливой, — и кивнула в сторону Дахцыко. — И отец даст согласие…
* * *
…Спустя месяц сыграли свадьбу Тотырбека и Заремы. Еще через месяц Тамурик отправился в Ленинград, где ему предстояло продолжить учебу в авиационном институте. Казалось, что жизнь Заремы наладилась…
Двери хадзара Дзуговых опять заколотили. Тотырбек никак не соглашался перебраться в дом родных невесты — от многих других обычаев он отказался, но переступить этот гордость ему не позволила. Пусть никто не бросит ему в спину: не он невесту в дом привел, а она его…
А через полгода сперва Рахимат — жена Иналыка, потом сам Иналык, а затем и Хамат заметили, что во взаимоотношениях Тотырбека и Заремы не все так светло и безоблачно, как то они хотели показать всем сельчанам. Старики не могли уловить причину, но явственно чувствовали холодок между ними.
Зарема довольно скоро убедилась, что согласие выйти замуж за Тотырбека вызвано было не любовью, как поначалу казалось ей, а благодарностью за его многолетнее чувство. В первую же ночь, как они с Тотырбеком остались наедине, она поняла, что нет радости от их близости.
Зарема мучалась, ощущая, что разлад и недовольство друг другом усиливаются. Они очень старались склеить совместную жизнь. Но это было сильнее их. И, наконец, оба окончательно убедились, что не получится у них жизнь, которую они ждали…
… Из Ленинграда от профессора Токмакова приходили письма. Почитав, Зарема оставляла их на виду у всех, как бы доказывая тем самым, что у нее никаких секретов ни от кого нет.
— Что он пишет? — спросил однажды Иналык.
— Зовет в Ленинград, — стесняясь старика, ответила Зарема и пояснила: — Один американский ученый, изучая человека, доказывает, что, чем развитее мозг, тем он больше несет людям страдания.
— То есть как? — изумился Хамат. — Не желает ли он сказать, что, чем мудрее человек, — тем он несчастнее, тем он злее?
— Именно так, — подтвердила Зарема. — Он не так глуп, как кажется. Подбирая факты, он, например, уверяет, что ум человека направлен на создание все более мощных и изощренных орудий смерти: так, на смену пике пришло ружье, потом пушка, самолет, танки…
— Верно! — поразился Хамат.
— А о том, что человек из века в век вырывает у природы все больше тайн, чтобы облегчить людям жизнь, и мозг в этом великий помощник, ученый умалчивает. Профессор предлагает мне подключиться к группе ученых и вплотную заняться исследованиями мозга.
— А здесь, в ауле нельзя? — с надеждой спросил Хамат.
— Нужна лаборатория. Сложная. Дорогая…
— Как же так? Мы все привыкли к тебе, так долго ждали, а ты уедешь… — огорчился Иналык.
— Профессор пишет, что сюда направит выпускницу института, — заявил молчавший до этого Тотырбек.
— А как тебе быть? Об этом пишет профессор? — рассердился Иналык. — Пусть скажет нам, как тебе дальше быть? Без жены жизнь коротать? С тем, что так и не дождемся внуков, — пусть не считается. Но ты, ты, сын, что хорошего видел в жизни? Председательство? А много тебе это радостей принесло? Или, может быть, тем, кого избрали председателями, не разрешают заводить семью и потомство?!
Тотырбек поежился. Что же получается? Новая жизнь пришла, но счастья пока нет. А как много людей достойны его! Зарема… Весь ее девичий облик кричал о скором счастье. Казалось, даже солнце, небо, горы, река, деревья, птицы веселились при ее появлении и пели ей песню блаженства и радости, горы будто родились для того, чтобы оградить ее от бушующих в долинах ветров, река, чтоб радовать девушку прохладой ледников, лес, чтоб приютить ее в тени, когда она, запыхавшаяся, взбиралась к вершинам по крутому склону. Она сама была счастье, прекрасна, как синева неба, шаловлива, как яркий луч утреннего солнца. И вдруг все это разом, в один день рухнуло, и на хрупкую горянку обрушилась огромная глыба бед и несчастий. Зарема выстояла, выучилась на врача, но почему ее глаза так грустны? Почему она прячет взгляд от Хамата, Иналыка, Рахимат, от меня, свыше двадцати лет терпеливо ждавшего ее? Я видел ее в Ленинграде. Жила впроголодь, зимой в комнате холодно, летом — душно, Тамурик неухожен. Жалея ее, предлагал бросить учебу, возвратиться в аул, обещал ей все, чего она была лишена в голодные годы в Ленинграде. А она в ответ весело смеялась, и я видел, что она СЧАСТЛИВА! Теперь она приехала в Хохкау, вышла замуж, у нее и дом, и семья, в которой все внимательны к ней и полны заботы о ней, она видит, что я люблю ее, — а смеха ее не слышно. Как ни пытайся уйти от правды, приходится признать: Зарема добилась своей цели в жизни, но она глубоко несчастлива…