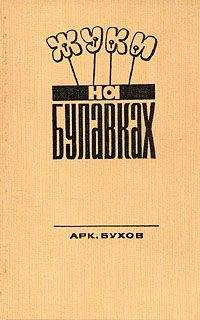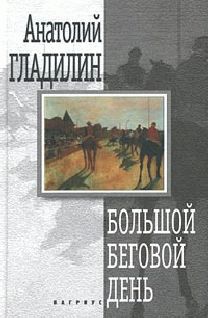Особых затруднений с постан…
Впрочем, мы об этом уже говорили. Затруднение произошло, и совершенно неожиданно.
Героиня пьесы Аглая по ходу действия должна была отвергать любовь некоего Никодима. Авторская ремарка говорила об этом скромно и конкретно: «Отталкивает».
По замыслу режиссера Сенокосова сцена отталкивания имела реалистический и актуальный характер. Аглая упиралась Никодиму в живот, скрипки подхватывали ее жест буйным аккордом. Никодим делал в воздухе двойное сальто и падал около ошеломленных зрителей в проходе. Шаман ударял в бубен, босые капельдинеры зажигали свет, и на этой эффектной точке кончался акт.
На одной из репетиций скрипки взяли аккорд несвоевременно, Аглая уперлась в Никодима не с той стороны и сломала ему ногу. Никодима, ныне просто А. П. Репкина, перенесли в оркестр, где он и остался на истекающий сезон в качестве солиста на треугольнике.
Роль освободилась. Надо было искать заместителя. Воспользовавшись этой заминкой, автор успел переделать положительного Никодима в отрицательного Никиту, лишил его слов и сделал рыжим для усиления комического элемента в пьесе.
Через два дня помощник режиссера таинственно прошептал на репетиции режиссеру Сенокосову:
– Нашел. За вторую собаку лаять буду я, а исполнитель собаки может сыграть Никиту. Вот он.
Перед Сенокосовым с радостной улыбкой на краснощеком лице стоял молодой человек, буйно горевший пламенем искусства.
– Вы?
– Я, – упоенно ответил молодой человек. – Давно добивался поиграть. Очень хочется.
– Старо, – строго остановил его Сенокосов. – Сцена – это прошлое. Оно рухнуло. Актер должен быть вне сцены. Он в публике. Он наверху и под. Понятно?
– Хорошо, – быстро согласился молодой человек, – я буду вне. Если надо и под. Пожалуйста.
– Можете стоять на одной руке?
– Не больше двадцати минут. Потом устаю.
– На шесте раскачиваетесь?
– Извиняюсь, как кошка.
– Приступим. Ваш первый выход – с дерева. Во втором акте вы, как отрицательное явление, сидите на дерезе и игнорируете жизнь. Потом вы замечаете любимую женщину и начинаете ползти по канату. Дальше под флейту вы прыгаете через своего соперника и стараетесь оскорбить его ухом… Понятно?
– Почти, – несколько неуверенно ответил молодой человек и почему-то вздохнул. – Моя фамилия Пифоев. Начнем.
Уже после первых трех репетиций Сенокосов деловито сказал директору:
– Прибавьте ему жалованья. Клад.
Пифоев проделывал все, на что только даже отдаленно намекал режиссер Сенокосов. На любую лестницу он поднимался только на руках. В сцене с Аглаей он, не дожидаясь ее толчка, проделывал в воздухе тройное сальто и уходил со сцены на голове, подкидывая ногой шляпу. Даже в сцене похорон дяди Пифоев ходил колесом, придерживая в зубах, как символ мещанского счастья, поднос с недорогим сервизом.
Единственно, что огорчало Сенокосова, это скорбное выражение на лице Пифоева, которое становилось все рельефнее и рельефнее с каждой репетицией.
– Смотрите веселее, – бодро говорил ему Сенокосов, – в вашем лице «Театр возможностей» приобрел настоящего актера. Зачем эта традиционная ходьба по сцене и говорение слов. Старо! Отжило! Человек в реальной жизни говорит слова, но хочет стоять на голове. Он ложится спать, но мечтает о том, чтобы сделать двойное сальто на глазах у общественности. Человек пьет лимонад, но мысленно ходит колесом. На сцене надо обнажать внутренние позывы человека. Канат, плюс музыкальное оформление, минус сцена – вот подлинное искусство, и «Театр возможностей» умело подметил это. Работайте, Пифоев. Из вас выйдет блестящий актер. На премьере старайтесь ходить на голове около самых зрителей. Зритель должен уйти из театра взволнованный.
Пифоев мрачно кивал головой в знак согласия и худел на глазах у действующих лиц и босых капельдинеров.
На последних репетициях он играл свою роль так вяло и с таким безнадежным видом, что Сенокосов даже прикрикнул:
– Не имитируйте утопленника! Веселее!
– Не могу я, – страдальчески уронил Пифоев, – не лезет.
– Как?
– А, да что говорить, – безнадежно махнул он рукой и безучастно встал на голову, изображая уход от действительности.
На спектакль Пифоев не пришел.
После поломки ноги бывшего Никодима это был первый серьезный удар по премьере.
– Приведите мне этого человека живым или мертвым, – метался Сенокосов, – я не дам без него второго звонка. Без него зритель не уйдет взволнованный!
Пифоева нигде не было. Зрители ели в буфете сухое печенье и стучали ногами. Наскоро надев ботинки, билетеры бегали по всему городу за Пифоевым.
В половине одиннадцатого один из них подал Сенокосову коричневый конвертик с запиской, на которой незнакомым размашистым почерком было бегло написано синим карандашом:
«Я в цирке. Вернулся на прежнюю работу. Уже загримирован. Сейчас мой выход. Здесь – тоже без слов, тоже на голове и тоже под скрипку, но только представление раньше кончается и можно поспеть на трамвай. Прощайте. Пифоев».
Сенокосов быстро изорвал записку и пугливо осмотрелся по сторонам.
– Никто не читал записки? – шепотом спросил он у билетера.
– Никто, товарищ Сенокосов.
– Так… Ваша фамилия Пигусов? На руках стоять можете? Да? А с декорации прыгать можете? Да? Идите, гримируйтесь. Только бородку какую-нибудь для настроения нацепите…
Премьера в «Театре возможностей» была спасена.
1935
Это был ничем не прикрытый запах собственности. Резко пахло красками, клеем и мокрой бумагой. Но Милобоев умиленно осматривал свою новую квартиру, и ему казалось, что от нее веет сладким и волнующим запахом, как от шубки любимой женщины, тайком прибежавшей на свидание.
– Это будет мой кабинет, – победно сказал он члену правления. – Сколько метров! Смотрите, как здесь можно шагать!
– Получите ваши метры и шагайте по ним на здоровье, – безучастно подтвердил член правления. – Одиннадцатого распределять будем. В семь, без опоздания.
До одиннадцатого Милобоев с иронической жалостью ежеминутно оглядывал свою прежнюю комнату.
– Ты подумай, – взволнованно говорил он жене, – Ершакову мешает эпоха. Лузгину – дети. Васе – пессимизм. А кто мне мешал жить? Мне мешал жить вот этот шкаф, о который я ударялся боком. Вот эта вешалка, о которую я тыкался мордой. Я должен был ходить боком мимо этого дивана. Почему человек, который верит в будущее, должен ходить боком? А там, в новой квартире, у меня будет большой, просторный кабинет, два больших окна, два широких подоконника. А какие стены! Ты понимаешь, что такое стены.
– Нет, красавец, – сурово остановила его жена, – не понимаю. Дай энциклопедию, посмотрю. Не мешай спать.
Четырнадцатого переехали. В кабинете у Милобоева поставили письменный стол, этажерку и два стула. Комната выглядела такой большой, как будто из нее только что выехали ясли.
– Пространство! – восхищенно вскрикивал Милобоев. – Метраж! Кубатура! Какая ширь!.. Только я и воздух!
– Если ты будешь носиться как бешеный по комнате, – с нескрываемым неодобрением заметила жена, – пусть лучше останется один воздух. Помоги хоть перенести горшки с цветами! Кстати, синий ковер ты повесишь у себя.
– Ковер – это еще можно, – без большой охоты согласился Милобоев, – ковер не так мощно убивает пространство. Давай ковер.
Через два дня Милобоев на неделю уехал в Киев. Когда он вернулся, всю дорогу мечтая о своем новом кабинете, жена встретила его теплой улыбкой.
– А кто моему песику приготовил сюрприз? – таинственно спросила она, подставляя щеку, пахнущую зубной пастой.
– Его маленький кролик, – умиленно ответил Милобоев, ткнув щеку губами.
Сюрприз оказался действительно неожиданным. Маленький кролик успел купить в рассрочку бурый диван, сразу и охотно занявший полкабинета, шкаф для костюмов, вытеснивший пустоту второй половины, и гипсовую фигуру, изображавшую римского воина, сушившего портянки.
– Александровской эпохи, – горделиво указал маленький кролик на диван, – по случаю. Тебе, может быть, не нравится?
– Нет. Ничего. Оригинальная эпоха, – грустно вздохнул Милобоев, – тогда, наверное, в манежах жили. Для нормальной комнаты такой диван немножко великоват.
– А какой воин! Ты посмотри на эти линии!
– Линии что надо, – еще раз вздохнул Милобоев и с тихой ненавистью посмотрел на гипсовую портянку, загораживающую свободный проход к столу. – Его нельзя в уборную поставить?
– Ставь, – сразу обиделся маленький кролик. – Если ты желаешь жить в пустом сарае – мне все равно. Твой дядя тоже дикарем был, хоть и инженер.
– Хорошо, – грустно сказал Милобоев, – мне все нравится. И шкаф нравится. И то, что он большой, – хорошо. Я буду в нем проводить выходные дни.
После этого маленький кролик проплакал от девяти до одиннадцати. Надо было мириться, и Милобоев произнес с бледной улыбкой: