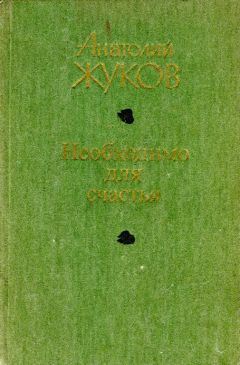Утром я встретил у столовой Аполлинарию Сергеевну с мужем, и они дружно и приветливо поздоровались со мной.
— А ведь я кому-то должен заплатить за вино? — напомнил я.
— Никому, — смущенно пробормотал толстяк. — Я уплатил. Кто же еще будет платить!
Аполлинария поглядела на меня с благодарностью и вздохнула — с сожалением. Все-таки три недели пробыть вместе не шутка, и духовная любовь начнет постепенно материализоваться.
Палага была разочарована. За обедом она ворчала, что ученые люди, может, и умные, но, если разобраться, все же дураки, потому что ехать на курорт с мужем — это все равно что везти в Тулу свой самовар и не пить из него, а только показать, какой он пузатый.
Аполлинария Сергеевна на радостях примирения с мужем была настроена благодушно и сказала с улыбкой, что ее не трогают цинично выраженные мысли.
— А у тебя как? — спросил я Палагу. — Бесплатный билет на поезд не подарил железнодорожник-то?
— Куда ему, — отмахнулась Палага. — Только и разговору что о своих паровозах. Первые дни вроде степенный был, о колхозе спрашивал, а сейчас одни паровозы. Будто у людей никакого дела нет, окромя езды. Чужой он, совсем чужой, до моего старика далеко.
— Ты же говорила, что ежик, злыдень?
— Мало ли что я говорила!
На другой день случилось событие, взбудоражившее всех отдыхающих нашего санатория, — к Лиде приехал муж.
Он приехал внезапно, без предупреждения, узнал, где живет физик, и явился в наш корпус. Оказывается, Лида написала ему откровенное письмо, и вот он явился их проучить. Весть эта сразу же стала известна в столовой.
Мы заканчивали обедать, когда к нам прибежала дежурная санитарка и прерывающимся шепотом зачастила:
— Здоровенный такой, на диван сел, подожду, говорит, а сам глазами на всех злобно так, с ненавистью… Ох, силы нет, как бежала… Кулаки у него во какие, на лбу рубец, а челюсть тяжелая, бульдожья… Подкараулить вас хочет.
Санитарка побежала к дальнему столику, где сидел физик, а мы ошеломленно глядели на побледневшую Лиду. Она только что пришла и еще не прикоснулась к обеду, надеясь, что мы, ее враги, сейчас уйдем, а мы ждали третьего блюда и вот стали свидетелями ее несчастья. Она глядела на нас вызывающе и решительно, ожидая встретить торжествующие улыбки, но улыбок не видела. Мы тоже были потрясены этим известием и вначале растерялись. Первой пришла в себя Палага.
— Бесстыдник, — сказала она с сердцем, — скотина немилящая! Да если бы ко мне приехал, я бы ему, стервецу… Ух, паразит!..
— Бесчестный человек, — сказала Аполлинария Сергеевна. — Никакого такта, чувства порядочности, этичности… Подстерегать свою жену, как последнюю… Нет, я не нахожу слов для возмущения!
Во мне тоже поднялось что-то протестующее и тревожное, и я глядел на Лиду, как на свою сестру, попавшую в беду. Я был готов заступиться за нее и, еще не видя того злобного, молодого и здорового, ненавидел его, как что-то чужое и враждебное.
— Не бойся, — сказал я Лиде. — Пойдем вместе, в обиду не дадим.
— Я не боюсь, — сказала Лида, улыбнувшись сквозь слезы. — Я ему правду всю написала, я только за Ваню боюсь, он расстроится, а ему нельзя расстраиваться.
— Что же будем делать? — спросила Палага. — Ведь он убьет тебя, если он такой поганец.
— Он меня любит, — сказала Лида, растроганная нашей поддержкой. — Я за Ваню боюсь, он только поправляться начал…
— Идем, — сказала Палага, решительно подымаясь.
Мы вчетвером вышли из столовой, подождали физика и вместе с ним отправились в наш корпус. Физик вел Лиду под руку и смущенно говорил ей, чтобы она не волновалась. Долговязый, нескладный, он сам растерялся от неожиданности предстоящей встречи, и со стороны особенно заметной казалась его почти детская незащищенность. Но мы трое шли сплоченные и готовые к обороне и к нападению, за нами вышагивали двое мужчин из-за стола физика, а за ними — отдыхающие нашего корпуса. Прежде многие из них подсмеивались над Лидой и ревниво поглядывали на тощего физика, для которого она пренебрегала здоровыми мужчинами, а вот теперь они были на нашей стороне и откровенно осуждали незадачливого мужа.
— Тюфяк какой-нибудь, рохля.
— От хорошего не пошла бы к этому.
— Этот, говорят, ученый, атомы расщеплял. У него вон и имя серьезное — Иван, а тот — боксер, кулаками хлеб зарабатывает.
В вестибюле нас встретил плечистый молодой парень, нетерпеливо шагавший из угла в угол. У дивана стоял его маленький чемодан.
— Значит, ты и будешь Лидин муж? — спросила Палага, заслонив собой Лиду и долговязого физика.
Я встал рядом с ней.
— Да, муж, — сказал парень мирно, посмотрев на Палагу, потом на меня. — А вы кто будете?
— Товарищи, — сказала Аполлинария Сергеевна, присоединяясь к нам. — Мы с ней живем в одном корпусе и кушаем за одним столом. И вот эти люди, — она показала на столпившихся у двери мужчин и женщин, — тоже ее товарищи.
— Очень приятно, — сказал парень. — Меня зовут Борис — И поглядел на Лиду, потом на физика.
Нет, не похож он был на того грубого и злобного, которого все мы ожидали встретить, но мы стояли перед ним, как перед плотиной, позади накапливались вновь входящие, дверь уже не закрывалась, а мы стояли настороженной безмолвной толпой, не смея ни столкнуть эту плотину, ни обойти ее.
Он завороженно глядел на Лиду, и во взгляде его, перемежаясь, вспыхивали и гасли обида, любовь, презрение, обожание, растерянность, мука. Я и сейчас вижу этот трудный, мгновенно меняющийся взгляд. Теперь он знал не только раунды и нокауты.
Борис глубоко вздохнул, как после трудной работы, с которой он не надеялся справиться, но все же справился, обвел смущенным взглядом толпу и улыбнулся устало, виновато.
— Что же толпиться-то, проходите, — сказал он с шутливым радушием хозяина и повел рукой, отступая к дивану.
— Гляди, чтобы без глупостей, — предупредила Палага. — Тут тебе не баловство, тут серьезное.
— Я чувствую, — сказал Борис, опускаясь на диван.
Неловко толкаясь, мы все прошли мимо него, стараясь не глядеть ему в глаза и потом оглядываясь. Он сидел и ждал, а рядом стояла и ждала Лида. Своего физика она отправила за нами.
Мы собрались в холле второго этажа, где обычно смотрели телевизор, а физик встал у окна, глядя на горы.
Мы сидели долго, курили, вяло переговаривались о чем-то незначительном, и только женщины изредка отваживались задеть то, о чем мы думали.
— Чужую беду руками разведу, — сказала пожилая женщина, — а вот к тебе придет — и подумаешь, ох как подумаешь.
— Для кого беда, кому счастье, — возразила ей Палага.
— . Все это страшно сложно. Любовь — чувство облагораживающее и не бесцельное, оно предполагает взаимное счастье, а вот неразделенная любовь или такая, когда у одного все кончилось, а у другого нет, — разве это счастье?
— Всякая любовь — счастье. А мы флиртуем, кокетничаем, романчики трехдневные заводим.
— Самокритично!
— Помолчала бы лучше.
Лида возвратилась заплаканная, с припухшими губами, но просветленная, ясная. Физик почти кинулся к ней от окна.
— Скоро на полдник, — сказала она, — ты с утра ничего не ел и куришь. Ты же давно бросил курить! Ох, господи, замучаешь ты меня совсем!..
Будто прохладным горным воздухом, ароматной свежестью повеяло от этих слов, мы заулыбались, заговорили, суетливо заторопились в столовую, глядя им вслед и любуясь ими. Ведь они были счастливые люди, к тому же оставались здесь на второй срок. В таких-то благословенных местах!
И они остались.
А я вот еду обратно домой. Везу жене девять килограммов яблок и килограмм лаврового листа. Она очень обрадуется, пожалуй, будет счастлива. Если эти десять кило прибавить к моему весу, то все будет в порядке и я оправдаю надежды нашего заводского доктора. Маша сказала, что при таком характере, когда за всех переживаешь, как за себя, никогда не пополнеть. Вот разве с годами, в старости.
Палага поправилась на 4 килограмма 250 граммов.
1970 г.
Дождь лил трое суток подряд. Обложной и по-летнему спорый, он хлестал все время без передышки и столько начудоквасил, что не расхлебаешь и в неделю. Накатанные за лето дороги стали непроезжими, смирная Кондурча вышла из берегов и сорвала два мостика, дойный гурт, простоявший на калде без корма, убавил молока, жатва хлебов остановилась в самый горячий момент, и намолоченное зерно лежало на временных токах и мокло под открытым небом.
Межов уже не радовался и солнцу, когда на четвертый день собрался в поле. А солнце было по-летнему жаркое и веселое, а небо, неподвижное и глубокое, голубело в каждой луже, а лужи стояли сплошь и исходили по краям теплым паром.
На машине ехать было нельзя, и Межов из правления пошел через все село на конюшню. Пока шел, несколько раз оступался в лужи, дважды чуть не упал и уж еле волок туфли, которые от налипшей грязи стали похожими на лапти.