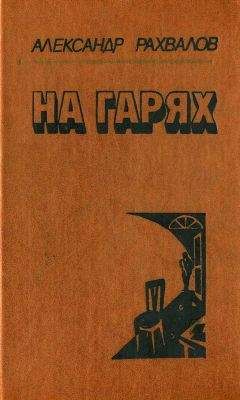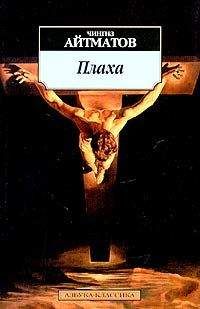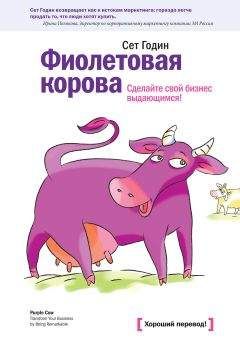— Как — просто? Что значит — были?
— Да, они просто были, но сейчас почему-то говорят, что они, эти статьи, применялись как бы, испытывались, действовали, что ли, на народе… Не могу выразиться. Но суть такова: статьи просто были…
— Ну, не долби, не долби… Были!
— Статьи были… Но за опоздание на работу не сидели.
— Почему же? — никак не мог понять Ожегов.
— Не сидели, потому что тогда не опаздывали на работу. За этот пресловутый колосок тоже не сидели… Потому что тогда не воровали! Да, хоть колосок, но не укради! Такая была мораль. Это позже позабыли честь, потащили снопами, а теперь вообще… Вот и рассуди, товарищ интеллиго… Еще неизвестно, кто пострадал. Ну скажи: слышал ты про эти страдания от старого колхозника, сталевара, допустим, слесаря хоть что-то? Проголодь? Так страна только-только на ноги вставала! Всем трудно было, но ведь даже мать моя — вечная прачка — рыдала, когда умер Сталин. Все рыдали… А кто заговорил вдруг о плохой жизни? Моя мать? Я? Опять же «господа»… Это он им не дал жить вольготно. Понимаешь, они могли бы жить с размахом тогда… а стали жить только после его смерти. Ох как сожалеют…
— Постой, постой! — перебил его Ожегов. То ли он играл, то ли действительно не понимал, о чем говорит Юрий Иванович, но перебил говорящего: — Почему — тогда?
— Ну, у них же, у этих недовольных, все по наследству, так сказать, от отцов: и квартира, и кое-какие сбережения… Чего им ишачить — сразу можно приступать к роскошной жизни. А Сталин бил по башке, как бы равняя всех с народом… Ты говоришь, — посмотрел в глаза участковому хозяин, — близится то время. Прекрасно! Я рад, что мы передушим тунеядцев и кровососов от наследств! Иначе их не переведешь: они не дурней нас — все с партбилетами. А народ, народ не пострадает… То, что вы гребете здесь, — это не народ… Только одного желаю: будьте смелей и берите выше… Ну, чего вы в грязи роетесь? Грязь без вас просохнет и превратится в пыль. Выше берите… Не надо в грязь… Все гораздо проще. Сними этот репродуктор со столба и скажи честно людям: Нахаловка — район бесперспективный, потому его снесут скоро, и не питайте никаких надежд. Будем, мол, строить город, идите, товарищи, на стройку, если желаете жить в нем, в новом и прекрасном городе. Стройте его, а не выжидайте здесь милости божьей. Вот как надо, а вы врете народу — подожди, скоро все образуется, и домовую книгу получишь. Это, товарищ капитан, поганое дело… Нельзя так с нами обращаться — мы не безмозглые бараны, наконец.
Ожегов покраснел.
— Ты откуда это взял? — спросил.
— Откуда… Догадывался, — ответил Юрий Иванович. — А вчера по пьянке Тамара сказала, что району — хана… Она ходила в исполком, что ли, и ей там, как многодетной матери, не стали врать: мол, не выхаживай землю… Все зря. Может, потому она так бесится, но другим— ни слова, чтобы не убить в людях последнюю веру… Здесь же кто как мог, так и зацепился за жизнь. Зачем бить по рукам? А ты не знал?
— Жить, Юрка, надо… — умолк капитан Ожегов.
Через минуту он спокойно произнес:
— Так, говоришь, когда Сталин умер, народ плакал?
— Да, горе было… Я пацаном был, но помню… Щемящая тишина! Растерянность… А народ, — торопился Юрий Иванович, — не мог любить деспота. Это факт. Строгих отцов всегда больше любят…
— Говоришь, плакали… — неизвестно к чему повторил капитан. — Говоришь, строгих отцов… Завтра Парфеново будем осаждать, сегодня — баб выселять из общаги… Радость людям — где ее взять?
Странно как-то повел себя участковый. Но само чувство, щемящее какое-то, прорвалось сквозь оболочку бессмысленных фраз и дошло до хозяина. Он сглотнул слюну…
— Если бы мне кто-нибудь принес радость хотя бы по почте, — произнес наконец Юрий Иванович, — я бы ходил по всем почтовым отделениям и просил книгу жалоб и предложений, чтобы вписать туда: «СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ!» Но такого не случится, я чувствую…
— По почте… радость… — бормотал Ожегов. Казалось, что это он, а не хозяин мучается с похмелья. Хозяин же посверкивал возбужденными глазами и даже про чай забыл…
Но участковый вырвался из забытья.
— Хреновые мы с тобой философы, — произнес он. — Не философствовать надо, а работать. Я вот зачем к тебе пришел… У вас там старое здание сносят, ты поговори с шоферюгами — надо завезти сюда битый кирпич, обломки разные, чтоб почище в проулке стало. Сделаешь?
— Добре! — отозвался Юрий Иванович. — Поговорю с водилами… Парни у нас неплохие в гараже.
— Ну, по рукам!
Ожегов поднялся из-за стола и стремительно направился к двери. Хозяин даже попрощаться не успел.
«Жить, Юрка, надо», — вспомнились и через час, и через два часа слова Ожегова. Юрий Иванович кожей чувствовал, что мучается человек, страдает всей душой. А душа есть, есть… «Все вы бунтари, — признался капитан Ожегов. — Мне аж страшно с вами разговаривать. Честное слово. Во всем околотке одна Клава проста и понятна».
Юрий Иванович вышел на крыльцо, присел. Пушок подкатился к его ногам, он приласкал его, а сам, глядя куда-то в сторону, повторял: «Проста она… Пусть так, пусть так, пусть…», точно часы, которые не разбудили его утром на работу и громко отмеряли теперь потерянное для Юрия Ивановича время. Но он не сожалел о том, что попусту провел его в комнате, похожей на тюремную камеру.
«Кругом тюрьма!» — как кричала Тамара.
К обеду капитан Ожегов отправился на камвольно-суконный комбинат, где должен был состояться митинг, организованный в честь новоселья. Беда заключалась в том, что народ не хотел переезжать на новые квартиры и вцепился в общагу, раскачивая ее, как гулкий колокол. Баб нужно было перевозить силой, но только после митинга.
Митинг был назначен на полдень. Власти подгадали под перерыв: не хотели терять рабочее время. И то верно. Когда Ожегов подъехал к трибуне, здесь находились одни милиционеры — в форме и, черт возьми, переодетые. Ветер дышал в микрофоны, включенные почему-то заранее. Казалось, земля дышала в микрофоны, не решаясь на первое слово в честь новоселья. Будто чувства в ее душе не поддавались никакой обработке и их невозможно было произнести как торжественную речь по такому торжественному случаю.
Подкатили обкомовские «Волги». Из одной вышел писатель и редактор, ненавистный капитану Ожегову. Он, писатель и редактор, распахнул курточку и внимательно посмотрел на трибуну сквозь темные очки. Участковый сразу понял, кто будет говорить речь…
Начальство в ожидании народа с комбината курило, по-простому сплевывая. Седые, семидесятилетние пузаны щурились на солнце. Это они, как писал в передовицах редактор, выполняли нечеловечески трудную работу, тянули область в передовые и не знали ни сна ни покоя. Это они переносили вместе с народом «временные трудности» и так же, как народ, недоедали, но работали и работали на благо Родины… Ожегов всегда кривился, точно от боли, читая подобные передовицы, и хрипел: «Титанический труд… Но я на пятом десятке выбегался, как борзая, а вы на восьмом работаете за семерых! Это откуда ж такое вдохновение берется?» Капитан Ожегов жег избранных старцев своею прямотой, но про себя. Он-то понимал, что на восьмом десятке не могло быть никакой не то что титанической работы, но и самой незначительной… Такая дряхлость, дай бог ноги передвигать и не подкоситься от слабости в коленках перед трибуной… Какая уж там работа! Быть бы живу… Но почему-то в городе не спешили обновлять, омолаживать, что ли, руководство, а старцы даже речи не могли говорить — принуждали писателя и редактора, и тот охотно исполнял их волю. Даже гордился, что он, по сути дела, а не старцы Глава… Он здесь говорит и там говорит — люди видят перед собой только его, говорящего с ними. Сегодня он тоже скажет… Ему бы писать, ему бы отдавать всю душу и все силы творчеству, но нет, он пишет и творит урывками, как бы между речами, — в этом его, может быть, гибель…
А народ уже вытесняли из проходной, люди нехотя, с ропотом приближались к трибуне. Они шли сюда из уважения к личности начальника — это тоже врожденное, что ли, качество, перешедшее к людям от матерей и отцов, подчинявшихся слепо в свое время авторитету «своих» избранников. Но ныне это качество как бы рассосалось в крови, сходя на нет: люди продолжали уважать, но по инерции. Душа уже не могла ликовать при виде высокопоставленного лица… И вот шли они, торкаясь друг о друга, роптали и ворчали на тех, кто пытался поскорее согнать их к трибуне. Люди шли на встречу с теми, чьи бронзовые бюсты маячили по всему краю; потому у людей создавалось такое впечатление, что их гнали на встречу с умершими. Да, да, люди-то привыкли за многие века видеть подобное увековечивание только на могилах знатных людей, а тут — раздвоенность такая: бюст видели, но и человек, оказывается, живой. Они никак не могли привыкнуть к бюстам и памятникам, устанавливаемым то там, то здесь разным персонам еще при жизни.