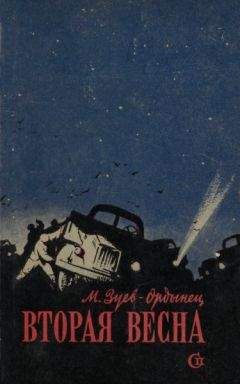Борис и учитель пошли на свет фар.
На узкой дороге, сжатой с одной стороны скалами, а с другой обрывами, меж машинами тесно сбилась толпа. Люди стояли на дороге, сидели на подножках машин, на крыльях, капотах, в кузовах и на крыше кабин. На двух ящиках с папиросами, снятых с машин, в свете фар, сидели друг против друга Корчаков и Мефодин. Директор был тяжело, мрачно неподвижен. Негнущиеся складки его плаща были как отлитые из бронзы. Рядом с директором сидел на земле Садыков, поджав по-восточному ноги. Опустив глаза, он чертил что-то палочкой на земле. Увидев подошедшего учителя, Мефодин озорно вскочил и указал Галиму Нуржановичу на свой ящик:
— Может, присядете, товарищ педагог? На подсудимую скамью не желаете?
Мефодиным владело то отчаянное безразличие к своей судьбе, когда человек, ни на что уже не надеясь, бросает вызов всем и всему. Вызов чувствовался и в его манере сидеть, положив ногу на ногу, оплетя колени руками, и в бесшабашной, но вымученной улыбке, и в голосе, картавившем особенно насмешливо. Но все видели в глазах его тоску отчужденности. Вокруг его ящика была обведена незримая черта, от которой все отодвинулись и через которую и он не перешагнул бы.
Для Галима Нуржановича нашлась табуретка, переданная из рук в руки над головами, и когда учитель сел, Егор Ларменович сказал густым от возмущения голосом:
— Ты, Мефодин, свое дуракаваляйство брось! Где ты увидел скамью подсудимых? Мы тебя не судим. Значит, тебе нечего нам сказать?
— Значит, нечего. Все ясно, — вызывающе ответил шофер и посвистел Карабасу, улегшемуся, у ног учителя.
Собака враждебно заворчала. Мефодин невесело улыбнулся:
— Вам нечего, а вот Садыкову кое-что сказал бы.
— Так в чем дело, говори.
— Последнее слово подсудимого, так сказать? — встал Мефодин я снял «бобочку». Нравилось ему разыгрывать Из себя подсудимого. — Ладно, слушайте, пока не надоест. А начнем вот с чего. Мог бы я свободно уйти, когда налетел на промоину. Только бы меня и видели! Но вот остался. Хочется мне сказать товарищу Садыкову мое последнее слово! — Он повел бровями в сторону Садыкова, но не взглянул на него. — Куда же ты, Садык-хан, людей и машины завел? Где глаза твои были? И где твое «не звякало, не брякало»? Казнишься небось? Зубами скрипишь? Поворачивать надо, а как повернешь? На этих жердочках, — ткнул он пальцем вниз, на дорогу, — машины не развернутся. Раком будешь пятиться?
Садыков, смотревший куда-то вбок, мимо Мефодина, опустил голову.
— А чего ты радуешься? — с мальчишеской злостью крикнул Яшенька. — Надо будет, повернем! Тебя не попросим. Без жуликов обойдемся!
— Я не радуюсь, Яшенька, — устало, без обиды ответил Мефодин. — В тупик дело зашло, какая же тут радость? А тебе я еще пару слов скажу, Садык-хан. — Садыков поднял голову и повернул к Мефодину большое, тяжелое ухо. — Зачем ты на людей как собака кидаешься? Всегда у тебя разговор криком. Только и слышишь: «Делай, делай!» или «Что, что?» Ты этим своим чтоканьем людям в печенки въелся! Или, думаешь, мы не понимаем тихого человеческого слова? Или душа у тебя вправду собачья?
— Стоп! Тохта! — отчаянно и растерянно закричал Садыков. — Когда я на людей кричал? Кричал, да? Что?.. Когда?..
Он смотрел на стоявших вокруг людей жалобно, прося защиты.
— Не хорошо у тебя, Мефодин, получилось, — тихо и сухо сказал Корчаков, косясь на взволнованного завгара. — Разве ты не знаешь, что Курман Газизыч наполовину глухой? Его на фронте взрывом оглушило, в танке. А глухие все кричат.
— На фронте оглушило? — смутился Мефодин. — Не знал. Тогда извини, товарищ Садыков.
Он улыбнулся ничего не понимавшему, тревожно озиравшемуся Садыкову прежней своей улыбкой, несмелой и перед всеми виноватой. Но сразу же глаза его гневно взблеснули и все в нем яростно закурчавилось: заплясала прядка на лбу, запрыгали запятые бровей, задергалась, как у припадочного, двойная заячья губа. Казалось, и кудри его сейчас задымятся, затрещат и завьются еще круче.
— Эх, братки, не попаду я теперь на чистые земли, на целину! Теперь вы мне окончательный поворот на все сто восемьдесят скомандуете. А только вот весь я тут перед вами! — рванул Мефодин на груди затрещавшую рубаху. — Хотите верьте, хотите не верьте, мне теперь наплевать, а угнал я машину для того только, чтобы показать вам высший класс. Думаю, пока они чухаются, каждую горку руками ощупывают, я первым на Жангабыл ворвусь! С ветерком! Врешь, думаю, не возьмешь Чапаева! Не возьмешь!
— А какой дурак тебе поверит? — холодно и насмешливо спросил Вадим. Он указал дымившимся мундштуком трубки на Мефодина. — Видели, товарищи, какой бяшкой прикидывается?
— А почему ему нельзя верить? — сказал Полупанов. — Я считаю, что Василию вполне можно верить.
— И я верю Мефодину! — крикнул Борис.
Мефодин оглянулся, увидел добрые, сочувствующие глава Бориса и улыбнулся ему все той же вымученной улыбкой.
— Между прочим, я эти ваши «Слезы шофера» с наскока проскочил! — сказал он, и вымученная улыбка стала озорной. — А вы небось на брюхе ползли?
— Не форси! — крикнул Воронков. — И от повестки дня давай не отвлекайся.
— Ладно, не буду отвлекаться, — измученно вздохнул Мефодин. Он провел глазами по близко подступившим к нему людям, что-то решая в душе. Но злое мужское самолюбие не позволило ему открыть недавним друзьям и обиду свою и отчаяние. Он лишь пошутил горько: — Не дал мне Садык-хан пирогов с целины покушать. И надо бы рассчитаться с ним за это на все сто, надо бы машину мою — кувырком в овражину! Чтоб окончательно его показатели испортить!
— Замолчи, гад! — сверкнула суровым, казнящим взглядом стоявшая в первом ряду Галя. — Лишить его слова!
— Не звони, Галька, в колокольчик, мы не на собрании, — не злобно, с усмешкой посмотрел на нее Мефодин. — Если бы был я гад, валялась бы сейчас моя лялечка-четырехтоночка в яме, лапки кверху и потроха наружу! Сил не достало…
Он пытался улыбнуться, но глаза тосковали. Все видели, что человек измотался, издергался до того, что в глазах пусто.
— Самокритикуешься теперь? — с обидной жалостью сказал Грушин. — До чего докатился!..
— Жалеешь, Степан Елизарович? — потеплели глаза Мефодина. — Вижу, что жалеешь. Вот как вышло, дядя Степа. Думал гору своротить, а запнулся на соломинке и упал.
— Стервец ты, Васька! — с горячей обидой сказал старый шофер. — «Запнулся… упал…» Упал — полбеды, не поднялся — вот беда.
Садыков, по-прежнему медленно чертивший палочкой по земле, не поднимая глаз, сказал ровно, без выражения:
— Я пойду, товарищ директор. Посмотреть надо на яму…
— Иди, Курман, — умно посмотрел на него Корчаков, впервые назвав завгара просто по имени на «ты». — На промоине, правда, Неуспокоев и Крохалев возятся, мост сочиняют, но ты и сам посмотри.
— Посмотрю, какой разговор? — пошел Садыков из толпы.
Люди расступились пред ним молчаливо, не глядя на него, и Садыков сгорбился, унося груз людского упрека. Мефодин блеснувшим взглядом ударил завгара в спину. Потом, скрутив в жгут, будто выжимая, щегольскую «бобочку», крикнул нетерпеливо и грубо:
— Давай, директор, решай, как со мной? Нечего резину тянуть!
— Ты погоди со своей персоной! У нас дела поважнее есть. Отвлекаешь нас от прямых наших обязанностей! — устало поднялся с ящика Егор Парменович, но его остановил Воронков:
— Придется на минуточку задержаться, товарищ директор. Новое дело открылось. А вернее сказать — надо раз навсегда с одним дельцем покончить… Иди, иди сюда, чего цепляешься? — крикнул он куда-то в толпу.
Там слышалась глухая возня, кто-то упирался, а его выталкивали на свет фар. И вот, выбитый крепким толчком в спину, из толпы прямо на Корчакова вылетел Шполянский с дорожной корзиной под мышкой.
— Тю, скаженный! — рассердился директор. — На людей начал кидаться?
— А теперь, гражданин Шполянский, открывайте, показывайте ваши ассортименты, — с недобрым спокойствием сказал Воронков.
— Нэ маю ниякого желания. Сами открывайте, колы право на то маетэ, — Шполянский осторожно опустил корзину на землю и отошел в сторону.
Воронков подбежал к корзине и отбросил крышку. В корзине поблескивали жгучим спиртным огоньком поллитровки с водкой. В толпе кто-то смачно крякнул и провел по губам ладонью, кто-то дробненько рассмеялся:
— Эх, вонзить бы стакашку на ночь глядя!
Но смех потух, когда другой голос осуждающе сказал:
— Бросьте, ребята, трепаться. Дело серьезное!
Корчаков брезгливо, носком сапога, дотронулся до корзины:
— Вы знали, Шполянский, что эта штука на время похода запрещена. Зачем же везете с собой целую корзину?
— То мое лекарство, — шкодливо заиграл Шполянский глазами. — Токсины, как сказать, полируеть, и нервы укрэпляеть.
— Не ври, прохиндей чертов! Я тебе отполирую сейчас токсины! — закричали из толпы. — Он в дороге водкой торговал. Пол-литра — полсотни!