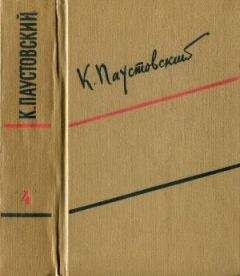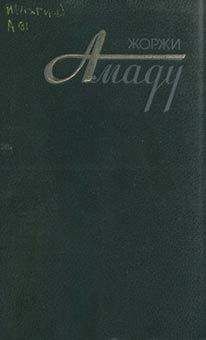Население Новопетровского состояло из солдат, а это было «самое бедное, самое жалкое сословие в нашем отечестве», из офицеров – подонков армии, и немногих гражданских личностей – прощелыг и авантюристов.
Шевченко сдружился только с одним солдатом – служителем при лазарете, Андреем Обеременко. Они были земляки и, сидя по вечерам на пороге лазарета, вспоминали Украину и пели вполголоса украинские песни.
В свободные от тяжелых работ и муштровки часы Шевченко заходил к целовальнику Зигмонтовскому. Это был лживый, невежественный старик, утомительно хваставшийся своей феерической жизнью. Жизнь эта сплошь состояла из «стечения удивительных обстоятельств». Зигмонтовский был и актером и якобы прогремел в роли Дмитрия Донского. Под видом молодого лейтенанта он плавал с адмиралом Лазаревым к Южному полюсу, а будучи заседателем Одесского земского суда, примкнул к декабристам, за что и сидел будто бы в одиночном заключении в крепости Измаиле. Все, на что бы ни бросал даже мимолетный взгляд этот беспокойный старик, вызывало у него жажду вранья. Однажды, угощая Шевченко селедкой, он обильно поливал ее прованским маслом и при этом рассказывал, что во время плавания с адмиралом Лазаревым ему, Зигмонтовскому, удалось досконально узнать, откуда берется это самое прованское масло. Корабли Лазарева остановились около острова Прованс, лежащего между Италией и «городом Сингапуро». На этом острове росли громадные деревья. Стоило только надрезать на них кору, чтобы в бутылки хлынуло чистейшее прованское масло.
Но среди обитателей укрепления даже Зигмонтовский и его бесцветная старушка жена казались прекрасными людьми, и Шевченко часто заходил к ним почитать газету (Зигмонтовский получал «Петербургские ведомости») и послушать безобидное вранье старика.
Прошло три года. Ротного Потапова перевели в Уфу. Вместо него был назначен ротным служака и фронтовик капитан Косарев. Он показался после Потапова «ангелом доброты». Комендантом укрепления был назначен полковник Усков – человек мягкий, увлекавшийся впервые появившейся в то время фотографией. Наконец, начальником края вместо Обручева был назначен генерал Перовский – взбалмошный, жестокий, но предприимчивый и своеобразный человек, гордившийся знакомством с Пушкиным, Гоголем и Жуковским.
Под влиянием друзей Шевченко Перовский в предписании к Ускову намекнул на необходимость послаблений ссыльному поэту. Шевченко был освобожден от тяжелых работ, муштровки, выправки. Перовский, будучи в Петербурге, просил шефа жандармов Дубельта разрешить наконец Шевченко рисовать, но Дубельт отказал.
Тогда Шевченко решил заняться лепкой. Бродя по окрестностям укрепления, он нашел хорошую глину и начал лепить из нее фигуры киргизов. Усков сначала обеспокоился, но потом решил, что раз лепка не запрещена – значит, позволена, и смотрел на эти занятия Шевченко снисходительно.
Жизнь скрашивалась письмами – снова начали писать друзья, – посещениями семьи Ускова и редкими наездами в укрепление людей из России. Ненадолго приезжал писатель Писемский. Он обрадовал поэта рассказами о необычайном успехе его стихов. Два раза приезжали с экспедицией, изучавшей рыбные богатства Каспийского моря, ученый Бэр и молодой ученый Данилевский. С ними Шевченко отводил душу, но каждый раз после отъезда этих людей его охватывала новая тоска.
Бэр посоветовал Тарасу написать о своей судьбе президенту Академии художеств, известному скульптору и медальеру графу Федору Толстому. Шевченко написал, но без всякой надежды на помощь Толстого, только чтобы не обидеть Бэра.
Пустыня сторожила укрепление. В самой монотонности ее горизонта, в бесплодности земли, в мутном небе была заключена огромная тоска.
По вечерам Шевченко часто ходил вокруг стен укрепления. Сонные волны набегали на берега. Перекликались часовые. Звездное небо, такое же, как и на родине, сверкало над головой, и от этого было еще горше, еще труднее на сердце.
Шевченко облысел, глаза его сузились и потеряли блеск, походка стала тяжелой и медленной. Жизнь как бы кончалась, но не кончалась каторга. Шевченко подолгу смотрел на запад, где за ночной мглой, за шумом тусклого моря лежали блещущие росой, цветистые от радуг степи и небеса Украины. Ему снились томительные сны, дрожащие песни кобзарей, деревни, пестрые как писанки, гром днепровских порогов. Но наступало пробуждение и поэт с горечью признавался:
Сердце старое черствеет,
И очи не видят
Ни хатенки этой белой
Под синью небесной,
Ни долины приветливой
У темного леса…
В Новопетровском Шевченко не написал за семь лет ни одного стихотворения. Казалось, что воображение иссякло, пролилось, как вода на сухую землю. И все чаще ярость подымалась к горлу, и Шевченко проклинал страшным неистовым проклятием палача Николая, обрекшего поэта на медленную смерть в изгнании, на худшую казнь, какую мог придумать «коронованный фельдфебель».
В 1855 году до глухого форта дошла радостная весть – Николай умер. Скрытое ликование охватило всех, даже некоторых офицеров. Упала тяжесть, ломавшая кости всей стране.
Говорили, что Николай отравился, не выдержав исхода Крымской кампании, и огромный его труп, надушенный и обложенный цветами, был так страшен, что придворные дамы от одного вида мертвого императора падали в обморок.
Шевченко ждал освобождения, ждал амнистии от нового царя – Александра.
Александру Второму были поданы списки ссыльных, подлежавших освобождению. Он прочел их и тщательно вычеркнул из списков имя Шевченко. Он вежливо улыбнулся и сказал: «Этот слишком сильно оскорбил мою бабку и моего отца, чтобы я мог его простить».
Последняя надежда на освобождение пропала. И солдаты, и Усков, и даже иные отпетые офицеры Новопетровского укрепления были поражены царской несправедливостью и старались утешить Шевченко.
Одинокий, лишенный родных и друзей, Шевченко увлекся женой коменданта Ускова. Он бывал у Усковых каждый день. Дети Ускова полюбили поэта и звали его Горичем, сокращая трудное отчество.
Жена Ускова была красивая, приветливая женщина. Она обласкала Шевченко, а он полюбил ее по-юношески, с трепетом и благоговением. Но это была любовь неразделенная и скрытая. О ней нельзя было говорить никому. О ней Шевченко не мог даже намекнуть самой Усковой.
Любовь ссыльного солдата к жене коменданта сулила им обоим только несчастье.
О первых днях этой любви Шевченко писал, что дыхание поэзии появилось в мертвой пустыне. Но каторга – это «безграничное вместилище безграничных мерзостей» – оказалась сильнее молодой женщины. На глазах у поэта Ускова менялась. Сначала она грустила и плакала, а через два года уже бойко играла в карты до утренней зари, ссорилась за ломбардным столом, сплетничала, вырывала страницы из Лермонтова и скручивала из них папильотки.
Шевченко перенес двойной удар – неразделенной любви и медленного морального падения любимой женщины. Но он уже привык к ударам и научился переносить их.
Во время припадков тоски он уходил в степь, где разбили свои кибитки киргизы. Кочевники с недоумением смотрели на пожилого солдата с желтым лицом и добрыми глазами, бродившего по пустыне. Шевченко любил киргизов за их чистосердечие, живость, за детское любопытство.
Опять, как на Арале, началась бессонница. Шевченко выходил с вечера к стенам укрепления и бродил всю ночь вокруг этих стен, пока не появлялась на чистом небе утренняя Венера. Он бродил и думал о том, что тюрьма убила его как художника и поэта.
Но на следующий день он записывал в своем дневнике: «Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, на берегу его горели в красноватом свете скалы, а на одной из скал блестели белые стены укрепления. Я невольно залюбовался своей семилетней тюрьмой». Такую запись, где были скупые и точные краски, мог сделать только настоящий художник. Нет, глаз был еще зорок, и сердце негодовало на людскую неправду – значит, каторга еще не совсем замучила поэта.
Шевченко не знал, что Федор Толстой обивал в это время в Петербурге пороги дворцовых приемных и требовал освобождения поэта. Толстой был человеком широкого сердца и душевной мягкости. Ему отказывали, но он упрямо возобновлял просьбы. Хлопотал он, хлопотала его жена, Настасья Ивановна Толстая. Они заинтересовали судьбой поэта всех петербургских литераторов. Они ездили к великим княгиням и министрам. Они доказывали, что дальнейшее заточение Шевченко – бессмысленная жестокость. Им помогали Сераковский, поэт Алексей Толстой, братья Жемчужниковы.
И вот наконец свершилось: второго мая 1857 года Шевченко получил письмо из Петербурга от Михаила Лазаревского. Лазаревский поздравлял Шевченко со свободой.
Поэт, не дочитав письма, заплакал и долго не мог унять своих слез. Потом он прочел, что обязан своим освобождением Федору Толстому, но больше всего – его жене, Настасье Ивановне Толстой.