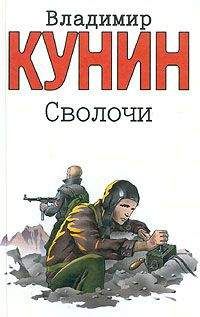– Здоровьем-то как? – все пытал городской.
– Бог милует пока… Голова болит. У нас полдеревни головами маются, молодые даже.
– Из родных-то есть кто-нибудь? Братья, сестры…
– Нет, давно уж…
– Умерли?
– Сестры умерли, брат ишо с той войны не пришел.
– Погиб?
– Знамо, Пошто с войны не приходят?
Городской закурил. Синяя слоистая струйка дыма потянулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна, а на светлой воле сразу куда-то девалась, хоть ветерка – ни малого дуновения – не было. Звенели кузнечики; посвистывали, шныряя в кустах, птахи; роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели хохлатые умельцы.
По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно… Старики загляделись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами,
– Вот и прожили мы свою жизнь,– негромко сказал городской старик. Анисим вздрогнул: до странного показалась знакомой эта фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана: так говорил отец, когда задумывался,с еле уловимой усмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: "Мать твою так-то", Ласково.
– Не грустно, земляк?
– Грусти не грусти – што толку?
– Што-то должно помогать человеку в такое время?
– У тебя болит, што ль, чего?
– Душа. Немного. Жалко… не нажился, не устал. Не готов, так сказать.
– Хэх!.. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, матушку, ложиться.
– Есть же самоубийцы…
– Это хворые. Бывает: надорвется человек, с виду вроде ничего ишо, а снутри не жилец. Пристал.
– И не додумал чего-то… А сам понимаю, глупо: что отпущено было, давно все додумал. – Городской помолчал. – Жалко покоя вот этого… Суетился много. Но место надо уступать. А?
– Надо. Хэх!.. Надо.
– А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб и забыли про тебя, и так бы лет двести! А? – Старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое проскользнуло в нем – в смехе.– Чтоб так и осталось все. А?
– Надоест, поди.
– Да вот все никак не надоест!
– А ты зараньше не думай про ее – не будешь страшиться. А придет – ну придет… Сколько там похвораешь! В неделю люди сворачиваются,
– Да.
– Ты вот вперед загадываешь, а я беспречь назад оглядываюсь – тоже плохо. Расстройство одно.
– Вспоминаешь?
– Но.
– Это хорошо.
– Хорошо, а все душу тревожишь. Зачем?
– Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство?
– Больше – детство.
– Расскажи чего-нибудь! Хулиганили?
– Брат у меня был, Гринька,– тот прокуда был.– Анисим улыбнулся, вспомнив.– Откуда чево бралось!.. И на войне-то, наверно, вперед других выскочил…
– Что же он вытворял? – живо заинтересовался городской старик.Расскажи-ка.., Пожалуйста, пока отдыхаешь.
– Хэх!.. – Анисим покачал головой, долго молчал. – Шельма был… Один раз поймал нас у себя в огороде сосед наш, Егор Чалышев, ну, выпорол. За дело, конечно: не пакости. Арбузишки-то зеленые ишо, мы их больше портили, чем ели. Ночью-то не видно: об коленку ево – куснешь, зеленый – в сторону. Да. Выпорол с сердцем. Потом ишо отец добавил. Гриньку злость взяла. И чево придумал: взял пузырь свинячий – свинью тогда как раз резали, – растер ево в золе… Знаешь, как пузыри-то делают?
– Знаю.
– Вот. Высушил, надул, нарисовал на ем морду страшенную… – Анисим засмеялся. – Где он такую харю видал?.. Ну, дождались мы ночи, подкрались тихонько к Егору на крыльцо, привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот… Утром Егор открыл дверь-то – и на улицу выходит,– а ему прям в лицо харя-то эта глянула.,, Мужик чуть в штаны не наворотил. Захлопнул дверь, да в избу. Да давай в трубу орать: "Караул! У меня черт на крыльце!"
Городской старик громко захохотал. До слез досмеялся…
– Трухнул мужичок. А? Ха-ха!..
– Да, так Егора потом и звали: "Егорка, черт на крыльце".
А раз-мы уж побольше были-на покосе тоже… Миколай Рогодин-хитрый был мужик, охотник до чужого – и говорит вечером: "Гринька, – говорит, – подседлай какого-нибудь коня, хошь моева, дуй в деревню, насшибай кур у кого-нибудь. Курятинки охота". Гринька недолго думая подседлал коня – и в деревню. Через недолго время привозит пяток кур с открученными головами. Мы все радешеньки. Заварили их туг же… Ну и умели в охотку. А Миколай ел да прихваливал: молодец, мол, Гринька! А Гринька ему: "Ешь, дядя Миколай! Ешь, как своих".
Оба старика от души посмеялись. Городской закурил.
– Поматерился же он потом!.. А што сделаешь – сам послал.
– Да…– Городской старик вытер глаза. Задумался.
Долго молчали, думая каждый свое, А жизнь за шалашом все звенела, накалялась, все отрешеннее и непостижимее обнажала свою красу под солнцем.
– Ну, пойду с богом…– сказал Анисим.– Маленько вроде схлынуло.
– Жарко еще…
– Ничево.
– Корову-то обязательно надо держать?
– Как же?
Анисим взял литовку, подернул ее бруском… Поглядел на ряды кошенины-неплохо с утра помахал. А городской старик смотрел на него… Внимательно. Грустно.
– Ну, пойду,– еще раз сказал Анисим.
– Ну, давай, – сказал городской. – Ну и… прощай, – Посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, ничего больше не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел в гору, к дороге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И опять пропал за поворотом.
Старик косил допоздна.
Потом пошел домой.
Дома старуха с нетерпением – видно было – ждала его.
– К нам какой-то человек приезжал!..– сказала она, едва старик показался в воротчиках.– На длинной автонобиле. Тебя спрашивал. Где, говорит, старик твой? Анисим сел на порожек, опустил на землю узелок свой…
– В шляпе? Старый такой…
– В шляпе. В кустюме такой… Как учитель.
Старик долго молчал, глядя в землю, себе под ноги. Теперь-то вот и вспомнилась та странная схожесть, что удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомнилась! Только… Неужели же?!
– Не Гринька ли был-то? Ты ничево не заметила?
– Господь с тобой!.. С ума спятил. С тово света, што ли?
С бабой лучше не говорить про всякие догадки души – не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси не стыдись самые дурацкие слова – верит; старой – скажи попробуй про самую свою нечаянную думу – сам моментально дураком станешь.
– Уехал он?
– Уехал. Этто после обеда пошла…
"Неужто Гринька? Неужто он был?"
Всю ночь старик не сомкнул глаз. Думал. К утру решил: нет, похожий. Мало ли похожих! Да и что бы ему не признаться? Может, душу не хотел зазря бередить? Он смолоду чудной был…
"Неужто Гринька?"
Через неделю старикам пришла телеграмма:
"Квасову Анисиму Степановичу.
Ваш брат Григорий Степанович скончался двенадцатого. Просил передать. Семья Квасова".
Брат был. Гринька.
Жена мужа в Париж провожала
Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:
А жена мужа в Париж провожала,
Насушила ему сухарей…
При игре Колька, смешно отклячив зад, пританцовывает.
Тара-рам, тара-рам, тара та-та-ра… рам,
Тари-рам, тари-рам, та-та-та…
Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.
А сама потихоньку шептала:
«Унеси тебя черт поскорей!»
Тара-рам, тара-рам, та-та-ра-ра…
Колька – обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках, день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.
– Коль, цыганочку!
Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбчив.
– Валю-ша,– зовет он, подняв голову.– Брось-ка мне штиблеты – цыганочку товарищи просят.
Валюша не думает откликаться, она зла на Кольку, ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос – "по-тирольски", чем потешает публику.
– Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазком, хоть левой ноженькой!.. Ау-у!..
Смеются, поглядывают тоже вверх… Валюша не выдерживает: с треском распахивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит:
– Я те счас отреагирую – кастрюлей по башке, кретин!
Внизу взрыв хохота; Колька тоже смеется, хотя… Странно это: глаза Кольки не смеются, и смотрит он на Валюшу трезво и, кажется, доволен, что заставил-таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и неумной, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это очень на него непохоже, и никто так не думает – просто дурачится парень, думают.
К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей, есть и мужики и парни.