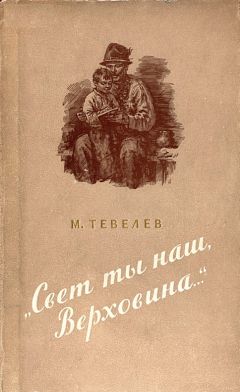— Мне? — и костлявые руки Сабо, описав дугу, коснулись кончиками пальцев груди. — Мне?.. Никто, пане. Я бедный человек и шел вместе со всеми.
— Откуда?
— Из Заречья, пане. Я там служу конторщиком при лесопильном заводе.
— Вы, должно быть, хотели сказать: не «служу», а «числюсь».
Сабо вбирает голову в плечи.
— Не пойму, пане.
— Что ж тут непонятного, — усмехается Ступа, — конторщик, которого редко видят в конторе.
— Я больной человек, пане, и кроме того…
Наступает пауза.
— Что? — спрашивает Ступа. — Вы выполняете другие поручения?
— Да, — нехотя подтверждает Сабо.
— Чьи?.. Воина Христова?
Звонок судьи.
— Суд не интересуют служебные обязанности свидетеля. Это не имеет никакого отношения к делу.
— Весьма существенное, — возражает Ступа. — Лесопильный завод, на котором числится конторщиком свидетель, принадлежит пану Балогу, родному брату священника Стефана Новака, если не самому Новаку, — фигуре ныне весьма заметной среди националистов и клерикалов на Подкарпатской Руси. Кроме того, «Воин Христов» — это псевдоним пана Стефана Новака. И если напомнить свидетелю о его разговоре в корчме Чинадиева накануне голодного похода с Иваном Гуртяком — правой рукой «Воина Христова», то перед нами встанет истина.
— В чем она? — отрывисто, хмуро посмотрев на Ступу, спросил судья.
— В том, что выстрел был провокационный. В том, что свидетели обвинения и стрелявший — он стоит перед нами тоже в качестве свидетеля — оплачены либо националистами, либо клерикалами. Я вторично прошу суд допустить к свидетельским показаниям служанку корчмы Елену Сабодаш, которая слышала разговор свидетеля с паном Гуртяком.
— Суд не может удовлетворить просьбу защиты, — произнес судья, порывшись в бумагах.
— По какой причине на этот раз? — спросил Ступа.
— Елены Сабодаш нет в Брно.
— Но она была здесь утром! — воскликнул Ступа.
— А сейчас нет. И местонахождение ее нам неизвестно.
Ропот проносится по залу. Я вижу, как трудно сдерживать негодование Ступе. И сквозь ропот слышен его голос:
— Защита настаивает в своем утверждении, что выстрел и все последовавшее за ним — провокация, как провокационны и сообщения о тяжелом состоянии пана Поспишил а, жизнь которого якобы в опасности.
— Доказательство! — выкрикнул прокурор.
— Извольте, — ответил Ступа. — Пуля задела мякоть правой руки. В Мукачеве Поспишилу сделали перевязку и отправили в Прагу. Но пан Поспишил не был оставлен в больнице пражским врачом. Удивительный случай в медицинской практике: тяжело раненный человек, жизнь которого в такой опасности, совершает прогулки по саду близ Праги и, я полагаю, посмеивается над тем, что о нем печатают чуть ли не некрологи.
— Подтверждение!
— Прошу суд вызвать свидетеля защиты доктора Йозефа Стоянского, врача пражской больницы…
Доктора Стоянского вызвали после короткого перерыва.
В зал вошел высокий седой человек. Лицо его было очень бледно. Он неуверенной походкой направился к круглой площадке для свидетелей.
— Доктор Стоянский, — спросил судья, — правда ли, что вам первому пришлось осмотреть рану пана Поспишила, после того как он был привезен из Мукачева в Прагу?
— Да, — подтвердил свидетель.
— Вы нашли эту рану легкой или тяжелой, опасной для жизни?
Стоянский опустил голову и глухо произнес:
— Тяжелой.
В зале заволновались. Ступа подался вперед и насторожился.
— Оставили ли вы пана Поспишила в больнице, — продолжал допрос судья, — или отправили его домой?
Стоянский еще ниже опустил голову.
— В больнице, — проговорил он чуть слышно.
— Свидетель Йозеф Стоянский, — раздался голос Ступы. — Почему вы говорите на суде совершенно противоположное тому, что говорили мне?.. Кто вас запугал?
Стоянский вцепился в барьерчик и пошатнулся. Судья позвонил. Служители подскочили к доктору и, взяв его под руки, повели из зала.
— Свидетель запуган! — произнес Ступа. — Разве вы не видите, в каком он состоянии?
— Нас интересует не состояние свидетеля, — ответил судья, — а то, что он сказал.
Защита заявила протест, но судьи выслушали его с безразличным видом, как выслушивали они и мои показания и многочисленные свидетельства в пользу Горули.
Все, что слышал и видел я в зале суда, было до того невероятно, что я начинал сомневаться: реально ли это? Бывали такие минуты, когда я готов был вскочить с места и крикнуть не судье, а переполненному залу: «Разве вы не видите, что здесь творится, почему вы молчите?!» Но сидевшие рядом со мной Славек и Анна Куртинец сдерживали меня.
— Вам это в новость, пане Белинец, — с горечью шептала мне Анна. — А что такое суды над коммунистами? И товарища Славека судили, и мне пришлось пять лет тому назад сидеть на той же скамье, где сидит сейчас Горуля. А разве процесс Димитрова в Лейпциге не был чудовищной провокацией?
Горуля вел себя во время суда как-то странно. Он с нескрываемым любопытством слушал и обвинительный акт, который с пафосом читал молодой судейский секретарь, и выступления свидетелей. Иногда он разводил руками и мотал головой, словно хотел сказать: «Ну и плетут же люди, просто уши вянут от такой брехни!»
Поведение Горули удивляло и беспокоило не только меня одного.
Во время перерыва ко мне сквозь толпу пробился Марек. Он задыхался от возмущения:
— Это чудовищно!.. Это фашизм… Они распоясались совсем, и судьи и прокурор. Они даже не считают нужным соблюдать видимость правосудия!.. Это страшно!.. А Горуля ваш уж очень спокоен, не нравится мне такое спокойствие.
— Это и меня тревожит, пане Марек, — признался я.
Все последующее время я не сводил глаз с Горули, и он мне казался очень постаревшим, беззащитным, попавшим в большую беду человеком, который еще не сознает, что с ним творят.
Но вот «судебное разбирательство» окончено. Судья предоставил последнее слово подсудимому.
Горуля медленно, как бы нехотя, поднялся со скамьи и, перегнувшись через барьер, устремил напряженный взор куда-то поверх головы судьи. По залу пронесся шепот, люди начали вытягивать шеи и недоуменно переглядываться друг с другом. Над головой судьи висел портрет президента, а над портретом — всем хорошо знакомый герб республики. Больше ничего примечательного там не было.
Шепот перерос в глухой гул. Даже члены суда заерзали на своих креслах и стали украдкой оглядываться. Судья посмотрел в ту сторону, куда был направлен взгляд Горули.
— Что вы там вздумали разглядывать, подсудимый? Мы ждем вашего последнего слова.
Горуля виновато улыбнулся и, продолжая рассматривать что-то видимое ему одному, сказал:
— Прошу прощения, пане прокурор, что побеспокою вас. Может, мне про то надо было пана судью спросить, да он спиной к гербу сидит, а у меня очи слабые. Что там написано, над львом? Дуже прошу, прочитайте мне.
— Вам следовало бы знать, подсудимый, — презрительно усмехнувшись, произнес прокурор, — девиз страны, в которой вы живете, — «Правда победит!»
— Красно дякую, пан прокурор, — с той же виноватой улыбкой произнес Горуля и обвел взглядом зал. — Первое слово — «правда» — прочитал, ну, а дальше никак не могу разобрать, что написано дальше. А оказывается, вот оно что — «победит!»
Он говорил негромко, мягко, но за этой мягкостью зал, и господа судьи, и прокурор почувствовали силу, которую нелегко сломить.
— «Правда победит», — повторил Горуля, — так, так…
— Но какое отношение это имеет к судебному разбирательству? — раздраженно спросил судья.
— Ниякого, паночку, — ответил Горуля, — к суду ниякого…
Славек зааплодировал, его поддержали десятки людей в разных концах зала. Судья нервно зазвонил в колокольчик и начал призывать публику к порядку. Горуля в ожидании, пока все утихомирится, стоял, опустив голову, и задумчиво водил пальцем по деревянной перекладине барьера. Но лишь все стихло, он снова поднял голову, и тут все увидели, как необыкновенно изменилось его лицо, каким оно стало строгим и гневным.
— Не я стрелял и не я ранил, — сказал он, — об этом добре знают и судья, и прокурор, и тот иуда, что продал свою совесть. Я тюрьмы не страшусь, пане прокурор, после Верховины тюрьма — рай! Вы загляните в голодные очи наших детей, послухайте, как ревет наш скот от бескормья. Я бы, может, сказал, послухайте, как плачут наши жинки, так этого услышать нельзя: у них уже сил нет вслух плакать. Поешьте хлеб, который мы едим. Ох, хлеб, хлеб!.. Как стала республика, нам обещали графскую землю на выкуп, а кому она пошла, та земля? Фирме «Латорица», да корчмарям, да сельским богатеям; с одного пана на другого капелюх надели, вот и вся реформа!
Голос Горули звучал грозно, и слова его обретали несокрушимую силу. Я слушал Горулю, дивясь и восхищаясь его мужеством.