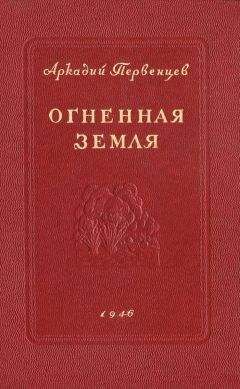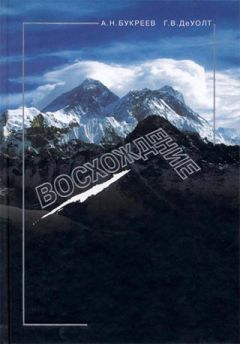— Безразличие? — переспросил Букреев, внимательно изучая доктора и отыскивая у него признаки тех болезней, которые сам доктор боялся обнаружить у других.
Надо бы уходить, но почему‑то хотелось слушать именно здесь, в дурно пахнущем подвале, где люди корчились и стонали, надеялись и отчаивались.
— Продолжайте, доктор, — попросил Букреев. Безразличие это, когда человек потерял себя, потерял свое место в окружающей обстановке, потерял интерес.
— Доктор приблизил свое лицо к Букрееву и за очками глаза его казались огромными и неподвижными. — Ужаснейшая штука безразличие. Это переход к вегетативной жизни, превращение сложного человеческого организма в простейший. Для него тогда все теряет значение, и родные и товарищи, и общее дело, ничего тогда для него не существует. Чувствуете, какое это страшенное дело. Превращается в простейшее существо, в растение. Сопротивляться трудно, но страшнее всего, когда исчезает сопротивляемость. Как доктор я вижу больше, может быть, вашего напряжение на нашем куске земли и предупреждаю вас, страшней всего — безразличие. Не допускайте до него. Поднимайте тонус жизни. Я вот сейчас могу спать в сутки два часа и то высплюсь. У меня сейчас то возбуждение, то торможение, повышенный тонус, а вот если… — Доктор поднялся, тряхнул плечами и как‑то неуклюже махнул кулаком. — Э, сам выдумал. У меня дочка на фронте, о ней думаю. Такая же дочка, как Таня, даже внешне напоминает. Я то сам пошел добровольно. Работал в поликлинике, попросился, вслед за дочкой. Она у меня студентка, медичка, молоденькая. А я… Что я сделал… Представьте, сидит человек в мягком кресле, пьет кофе, и вдруг решил развести в стакане горчицу. Что ты делаешь? Пью кофе с горчицей. Ты же можешь пить чистый кофе? А вот я хочу с горчицей. Давлюсь, а хочу свет удивить. Меня в эвакогоспиталь переотправляли, в Краснодар, а я вот сам напросился в десант…
— Но вы хорошо сделали. Вы честно поступили.
— Честно! У какого‑нибудь молодого врача отбил место. Меня полковник знает давно, он порекомендовал. В общем решил пить кофе с горчицей и должен пить. Извините меня, Николай Александрович. Разговор прямо‑таки скажу не десантный. Всякая чепуха в голове сидит. А ваши ребята хороши. Постараемся всех вылечить. Вы что, Тамара?
Тамара стояла на фоне просвечивающейся на слабом свете простыни–перегородки. Лица ее не было видно, но золотистые волосы короной окружили голову.
— Капитан Турецкий просит понтапон.
— Капитан Турецкий? Это из штаба дивизии? А у вас остался еще понтапон, Тамара?
— Немного есть.
— Дайте, — обратился к Букрееву и извинительно добавил, — очень страдает. У него одна нога ампутирована по колено, вторая по щиколотку, вот так, — нагнувшись, он провел линию на ноге. — Кстати, я сейчас должен сам к нему подойти…
Доктор торопливо распрощался.
— Вы когда же успели сюда? — спросил Букреев, оставшись с Тамарой.
— Вместе с вами. Как говорится — второй волной.
— У нас не были?
Она пренебрежительно скривила губы, отвернулась.
— Отвыкаю от моряков, товарищ капитан.
— Напрасно…
— Может быть.
— Вы работаете с Таней?
— Да. — И вдруг Тамара неожиданно метнула на него быстрый взгляд. — Она вам нравится? Таня?
Этот вопрос, поставленный в упор и с такой беззастенчивостью (будто она ему за что‑то мстила), застал его врасплох.
— Я пошутила, — сказала Тамара, зябко подергивая плечами. — Заметно, как я исхудала? И раньше я не была особенной толстушкой, не то что… Таня. А сейчас. Кости чувствуются везде.
— Вы стали похожи на девочку, — невпопад вставил Букреев.
— Если кто не видит лица, со спины, говорят четырнадцать лет.
Из подвала донеслись протяжные крики. Кто‑то кричал так, как голосят деревенские бабы, с приговором. И потому, что голосил мужчина, было особенно тягостно. Тамара сказала:
— Молоденький один, из станицы Калниболотской. Двадцать шестого года рождения…
— Ну, до свидания.
— До свидания, — просто сказала Тамара и сделала шаг вперед.
— Вы хотели что‑то у меня спросить?
— Да. — Маленькие ее уши покраснели и на чистой бледноватой коже лица появились красные пятна. — Я хочу задать вам всего один вопрос. Только отвечайте откровенно. — Тамара сделала еще шаг вперед и горькая улыбка пробежала в уголках ее губ. — Звенягин хорошо отзывался обо мне?.. Вот когда бывал с вами. С товарищами.
— Я не был с ним настолько близок…
— Следовательно вы ничего не слышали обо мне от него? — Она задумчиво приложила пальцы ко лбу. — Почему меня так оскорбил тогда Шалунов. Вы помните когда?
— Да.
— Но все же я отношусь к памяти Павла… Михайловича с хорошим чувством. Простите, я вас задержала. До свидания. Если увидимся. Сейчас каждый час, прожитый здесь, — роскошь…
На третий день плацдарм обстреливался дальнобойной артиллерией и минометами с покрытием определенных площадей.
Батраков, пришедший с передовой, был недоволен.
— Немцы окапываются, Николай Александрович.
— Ну что же им остается делать?
— Вот это‑то и плохо. Мне не нравится.
— Нравится или не нравится, Николай Васильевич, но так бы поступил и ты на их месте… На берегу не удержались, присасываются в глубине. Боятся прорыва. Как любят сейчас выражаться… парируют наш выход на оперативные просторы.
— Пока они не влезли в землю, нужно бы нам форсировать расширение плацдарма, именно выходить на простор.
Букреев промолчал, так как не поддерживал экспансивных стремлений своего заместителя. За столиком, приспособленным в углу их КП, сняв куртку, трудился Кулибаба. Быстрыми, сноровистыми движениями он резал морковку. Поверх обмундирования у него был повязан фартук. Рядом был прислонен к стене автомат, и на нем обвисла сумка, набитая дисками. Второй вещевой мешок с провизией и специями висел на гвозде. Кулибаба был корабельным коком, знал и любил свое дело, но при высадке дрался наряду со всеми и из оружия предпочитал автомат и кинжал. Букреев видел Кулибабу в атаке, когда этот невысокий крепыш, круглолицый и добродушный, сцепился с широкоспинным голенастым немцем. «Сам выпотрошу, — рычал Кулибаба, — выпотрошу». Кулибаба подмял под себя противника, потом в руках кока оказался вот этот нож–кинжал. Кулибаба поднялся и вытер кинжал о мундир немца…
Морковка лежала на доске оранжевой кучкой. Кулибаба, покончив с морковкой, бросал в ладонях кочан капусты, осматривая его глазом специалиста. Нож, воткнутый им в стол, покачивался. Манжула, пристроившись на корточках у входа, покуривая, наблюдал за коком.
— Сегодня, борщом угощу, — сказал Кулибаба, отдирая верхние гнилые листья. — Где капусту достал, Манжула?
— На колхозном базаре.
— Шуткуешь, Манжула. — Нож расхватил кочан на две части. — Росистый изнутри. Видать, прямо с грядки.
— Прямо с грядки, Кулибаба. Горбань к ужину хотел рыбу принести. Немец наглушит в море, а он на тузике достанет.
Букреев вслушался в разноголосый шум, доходивший в их убежище. Взрывались мины, снаряды. Землю ощутимо трясло. Кулибабе приходилось выбрасывать из шинкованной капусты комочки земли, падавшие с потолка.
В писке зуммеров телефонных аппаратов чувствовалось что‑то жалобное. Дежурный тихо басил. «Буран. Слушает буран. Да, да… слышу… Жара?»
— Как там? — спросил Букреев дежурного.
— Атакуют левый фланг. У нас спокойно, товарищ капитан, — отвечал дежурный, чуть приподнимаясь и не отрывая уха от трубки.
— Выйдем, Николай Васильевич, посмотрим.
— Лучше бы нас атаковывали. Как‑нибудь отбились бы, — ворчал Батраков, выходя из КП, — вот заметь, опять помощи туда потребуют…
На ротных участках стрелки раздвигали противотанковый ров ходами сообщения, пулеметными гнездами и щелями для укрытия при танковых прорывах. Букреев лег на выброшенную лопатами теплую землю и приложился к биноклю. Справа алюминиевыми блестками рябило плес озера, и за ним террасами поднимались к горизонту плоские высоты. Ближе к ним, у озера и влево улавливалось движение автомашин, танков и пехоты. Взлетевшие столбы земли и дыма, поднятые снарядами нашей артиллерии, стрелявшей через пролив, гасили это движение, но не надолго. Артиллерийский подполковник, встреченный Букреевым в Тамани, обрабатывал глубину удачней, нежели передний край, и, может быть, к лучшему. Надо было тревожить германские батареи, от них все зло, а обстреливая передний край, немудрено было накрыть и своих.
Младший лейтенант передового корпоста устроился в узкой расщелине почвы, прикрытой от противника позеленевшим валуном. У него была рация, и тонкий стержень антенки — покачивался над кустами присохшего молочая. Над пригорками, где засели немцы, поднимались прозрачные маревца, радужно подсвеченные косыми лучами солнца. Маревца поднимались только на предполагаемом изгибе окопов противника, и, вероятно, дымилась парная земля, выброшенная на брустверы.