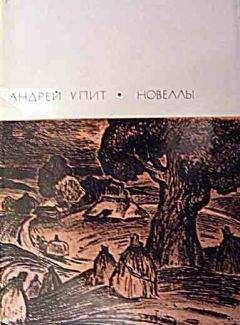— Ну, верти! — Отец приложил край лопаты к точилу. Из клети вышла хозяйка с тюком холста.
— Неужто мальчишка сможет? — засмеялась она.
Апог, как обычно при хозяевах, сделал приветливое лицо.
— Сможет, он у меня крепыш. Один полмиски похлебки съел… Ну верти, — добавил Апог уже тише и жестче, когда хозяйка отошла.
Андр вертел. Вначале дело шло шутя. Но он по опыту знал, что потом будет все тяжелее. Наточить большой нож или старую косу легко, но с новой косой, с только что выкованным топором или затупившейся лопатой маеты много. Уж лучше нарвать и накрошить три корыта листьев.
Андр вертел… Наточить старую косу — пустяк. Можно вертеть одной рукой и смотреть, как сверкающее лезвие медленно, полукругом скользит по точилу от острия до пятки и обратно. На обушке косы почти не угасают синеватые блестки. В конце косовища красиво, ровно намотан жгут из лычка или полоски жести, а клинышки напоминают спеленатых вместе младенцев — только головки выглядывают. Коса так красиво поет: у острия тонко, визгливо, даже в ушах щекочет, но чем ближе к пятке, тем звук ниже… А лопата только глухо гудела. Она тяжело и мягко липла к точилу, и вертеть становилось все труднее. У косы затачивается один верхний край лезвия, нижний же только раз легко проводят по песчанику, зато лопату точат с обеих сторон одинаково. С обеих сторон она сильно выщерблена камнями, и зазубрины нужно сточить поровнее, иногда ее острый край бывает весь изогнут — вот тогда попотеешь. Придерживая правой рукой черен, отец ладонью крепко прижимал лопату к точилу. Камень со скрежетом, неохотно грыз толстое железо. Вначале он вращался довольно быстро и ровно, но вскоре начал вертеться все медленнее, толчками. Андр поминутно менял руки и наконец ухватился обеими. Но ровно вертеть уже не мог. Повернуть ручку сверху вниз нетрудно, но снизу вверх шло тяжело. На руках набухли синие жилы, от одышки сердце готово было выскочить из груди. Сопротивление в верхней и нижней половине круга до того разное, что вертеть равномерно невозможно. Когда Андр толкал ручку вверх, один конец оси выскакивал из паза, с силой прижатая отцом лопата соскальзывала, и тот уже раза два бросил злой взгляд на Андра.
Апог остановился, поднес лопату к глазам и провел по ней большим пальцем. Выругался, сплюнул и снова приложил лопату к точилу.
— Ну, верти! — крикнул он.
Андр тем временем подлил из штофа воды. Плеснул и на концы оси, которая уже начала выть. Андр снова принялся вертеть. Теперь отец нажимал с удвоенной силой, налегая всей ладонью. Мягкий песчаник со скрежетом терся о железо, вода стала густой, как грязь. Коричневая жижица плескалась о лопату. Отец, согнувшись, нажимал. Голова его время от времени касалась соломенной шляпы Андра, и мальчик чувствовал запах изо рта отца. Порою болезнь Апога как будто проходила, и тогда пахло не так сильно. А теперь вынести невозможно было. Запах как-то волнами ударял в нос, и Андру от него становилось еще тяжелее, чем от работы.
Все туже вертелось точило, все чаще выскакивала из паза ось. Но сердитый взгляд отца теперь уже не пугал Андра. Он думал только о том, что скоро конец. Тогда он побежит к мочилам. Янцис не успеет выловить всю рыбу. И они все-таки поделят ее пополам.
Наконец отточили. Осмотрев лопату, отец молча вскинул се на плечо и пошел к дому. Андр бросил опасливый взгляд на дверь и уже двинулся было мимо сарая. Но сегодня ему не везло. В дверях вдруг появилась мать с кувшином воды, голова у нее была туго обвязана черным платком.
— Куда бежишь? — крикнула она. Голос у нее раздраженный, надтреснутый, страдальческий. — Наруби капустных листьев поросенку… Две охапки… Только побольше!
— Хватит и одной, — несмело попытался возразить Андр и откашлялся, чтобы скрыть дрожь в голосе.
— На воскресенье тоже! — еще резче крикнула мать. — Сначала одну — и сгребешь в сторонку. Потом изрубишь другую…
Она поставила кувшин на лавку у двери и перелезла через плетень в хозяйский огород полоть морковь…
Держа правой рукой на плече лопату и в левой кувшин с водой, Апог шел к «острову». Туда было около получаса ходу. Хозяйские владения тянулись почти на версту. Потом начинались соседские луга и пастбища, и только за ними, вклиниваясь в помещичий лес, лежал «остров» — большой, довольно низкий участок поля и луга. К нему было трудно пройти, раньше хозяин сеял на нем клевер, вику и яровые. Теперь там уже ничего не родилось. Оставалось только унавозить и посеять рожь. Апог подрядился расчистить заросшие канавы. Все ближе к дому. Рытьем канав он только и кормился, временами ходил на заработки в дальний конец волости.
Жена, наливая воду, намочила оборы от постол, которыми был перевязан кувшин. Влажное прикосновение приятно холодило пальцы. Сегодня опять палило немилосердно. Правда, дул слабый ветерок, но от него почти не было проку. Редкие одинокие облачка таяли на солнце, как только приближались к нему. Апог давно знал: когда люди выходят на работу в обед, солнце печет, как оголтелое. Воздух звенел от жары, и вдали, над лесом, будто дрожали струи расплавленного стекла…
Апог снял жилет, достал из него нож и сунул в карман штанов, жилет повесил на черен лопаты. Надвинул шапку на глаза. Хотя он только что ел похлебку, но после селедки захотелось пить. Он поднес ко рту кувшин и немного отпил. Больше нельзя — не хватит до вечера.
Апог не пошел по дороге. Канавами вдоль лугов и пастбищ было, правда, не ближе, но зато привычней. Ему редко случалось ходить по дорогам. Он все лето проводил на болотах, лугах и пустошах. Не измерить канав, вырытых и расчищенных им на своем веку… Но не об этом думал теперь Апог. Он думал: вот бы затянуло небо, пошел бы благодатный дождичек и проморосил бы до вечера. Время от времени он смотрел вдаль, где над лесом дрожали струи расплавленного стекла.
Косовица еще не подошла — только кое-где виднелись отдельные скирды клевера. Но высохший погремок так и трещал под ногами. Клевер стал черно-коричневым, а там, где почва была пожирнее, желтые гроздья полегшей чины склонялись над кочками. Но это не занимало Апога. Он свернул в овсяное поле и широким, размеренным шагом пошел по заросшей канаве. Под ногами путалась уже отцветающая полевица, серовато-лиловая пыльца горстями набивалась в высохшие постолы. Местами алели кустики земляники. Ноги скользили по ней, а от раздавленных ягод в воздухе стоял кисло-сладкий аромат. Апог подумал, что в будущем году этот участок непременно оставят под паром, придется расчищать канаву, может, опять будет заработок. Но меньше чем шесть копеек с сажени он не возьмет. А этот мошенник — скряга, навряд ли столько даст. Сам, когда запьет, деньги горстями швыряет, а с рабочего человека последнюю шкуру готов содрать.
Жарко было идти полем, но возле «острова» на Апога, точно в риге, пахнуло зноем. Ни ветерка. По сторонам и впереди стеною стояли деревья. При взгляде на красное от щавеля, словно подожженное пылающим солнцем, паровое поле резало в глазах. У Апога перехватило дыхание. Такая адская жара не к добру. Вот-вот надвинется градовая туча. Хоть бы дождь полил, мягче бы копать было.
Апог прошел по очищенной канаве до того места, где начиналась неочищенная. Тут он бросил лопату, кувшин с водой поставил в тень ивового куста. Пошел дальше по поперечной, заросшей ивняком канаве и достал из густого куста топор, бечевку с колышками и грязный, задубевший мешок, в котором был небольшой сверток. Вернулся на прежнее место, бросил мешок в тень и хотел нагнуться за лопатой. Но тут он почувствовал, что слишком устал, и провел ладонью по лицу — она стала влажной. Посмотрел на солнце, потом в сторону поля: нет, у Квиешанов не вернулись еще убирать клевер. Стало быть, сейчас не больше половины второго. Полчасика еще можно поваляться. Зато к вечеру он поднажмет — ночи теперь совсем светлые.
Апог уселся в тени. Достал из кармана штанов кисет, развернул, зачерпнул лопаточкой белого порошка, ссыпал в рот и запил водой из кувшина. Затем он лег на живот, оперся подбородком на руки и закрыл глаза.
Сперва он ощущал только, как солоновато-кислый порошок приятно таял во рту, как от него внутри разливалось тепло. Удивительное лекарство! Не посоветуй люди, давно бы уже на погосте был… И только он подумал об этом, как сразу ощутил боль под ложечкой. По-настоящему болезнь давала о себе знать только два-три раза в год. Начиналась она постепенно, колотьем в боку и схватками под ложечкой, с тошнотой и рвотой. И тогда дня три, а то и неделю, приходилось отлеживаться. Порою боль становилась такой лютой, так его схватывало, что он корчился, метался и кричал в голос. Тогда ему клали на живот горячие припарки с золой — и опять легчало. В перерыве между приступами его донимала только противная отрыжка, начинавшаяся откуда-то из самой глубины, и страшная изжога, от которой очень помогала сода. А вот от запаха ничто не помогало, и никогда не отпускала боль — она то слабела, то становилась сильней. Но терпеть можно было, хотя иной раз приходилось стискивать зубы и зажмуриваться.