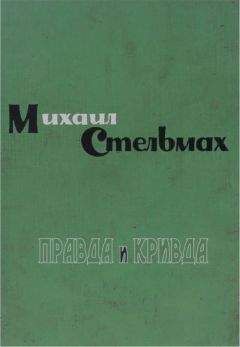— Много вас таких хитроумных на свете развелось.
— Не хитроумных, а осторожных, — поправил Гайшук. — Не от большого добра приходится иногда держать язык за зубами: учили уже нас, и хорошо учили.
— И меня же учили…
— Вам легче: что со старика возьмешь!
— Эх, Петр, не раз я себе думаю: чего в войну, да и без нее, одни люди становятся у нас орлами, а другие — прожорливыми мышами возле нашего зерна. Жрут, переводят, трубят еще и гадят его, а сами всюду галдят, что они охранники. И так мудро галдят, что им и сверху верят. Неужели наша жизнь не может обойтись без всяк безбородьков?
— Не может, — уверенно ответил Гайшук.
— Да почему?
Гайшук полез рукой к затылку, и на его высоколобой голове кротовой кочкой зашевелилась шапка.
— Это, деда, не простая арифметика, и задачка в ней составлялась не один день или год. Трудная и запутанная задачка!
— Говори — послушаем.
— Тогда слушайте, если имеете время. Как вы думаете: от старой несправедливости остались у нас рожки да ножки или еще что-то?
— Ну, осталось еще что-то. И оно, как прожорливый птенец кукушки, выхватывает для себя все, что может выхватить.
— Еще и как выхватывает! И это такая штуковина, что ее приказом не уволишь с работы, директивой не запретишь, не раскулачишь и не продашь на торгах. Не так ли я думаю?
— Не тяни. Сучи уже дальше свою веревочку.
— Она такая моя, как и ваша. Я свое мужицкое накипевшее выбрасываю, — насупился Гайшук. — И вот дальше выходит такое: при нашей большой правде, которая пришла от самой революции, перед несправедливостью есть только две дороги: она должна вслед за капитализмом с моста и в воду или лукаво напялить на себя одежку правды и ею же защищать свою шкуру. Теперь на свете правда стала большей, а несправедливость хитрее, ее не сразу и раскусишь в каком-то кабинете или на трибуне, где она будет говорить и голосовать за социализм для народа, а потом с этого же народа будет драть взятки. Ну, кто живет по правде, тот не ищет бесплатных льгот, не имеет наглости переться по чьим-то головам или и скручивать их, тот и конюхом охотно пойдет работать. А разные большие или меньшие безбородьки в конюхи уже не пойдут: они попробовали и легкого хлеба, и меда, заработанного языком или лукавством, и им это питание стало таким вкусным, как мамино молоко, они его уже до отвала будут сосать, хоть бы из мамы и кровь пошла. Вот такое налипшее начальство кнутом отсюда надо гнать истинному начальству. Кнутом!
— Нарисовал картину, — прикидывая что-то свое, прищурился старик. — Ну, а когда же им, пережиткам разным, конец придет?
— Это уже другая задача, и ее можно так начинать: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Я мыслю — одинаково надо верить людям, чтобы не было так: я, к примеру, сын, вы пасынок, а еще кто-то — и совсем незаконнорожденный, и не потому, что ему не нравится Советская власть, а потому, что он за мелкую вину или острое слово не нравится какому-то не рабочему, а чиновнику, который ближе стоит и к меду, и к идеям по совместительству. Вот пока что такому чиновнику больше верят, чем мне или вам, с ним не сразишься честно — крест-накрест. Он тебя быстрее схватит и подножку даст, прежде чем ты его ухватишь хоть за кончик хвоста. Вот поэтому много у нас болтовни по углам и закоулкам, а на открытом собрании мы в рот воды набираем. Наш дядька по-настоящему еще не заговорил и по-настоящему еще не показал умение и силу хозяйственную. А у партии хватает больших и неотложных забот. Она сейчас саму смерть крушит! И сокрушит! Но руки ее и до этого дойдут: раскусит она всех пустозвонов-свистунов, хоть бы как ни высвистывали они по разным трибунам — но аж зафурчат за ними. Сначала полетят, как гнилые груши, безбородьки, а дальше и более хитрые индивидуумы, а самые прыткие с высоких должностей уйдут по собственному желанию, не забыв выхлопотать себе высокие пенсии.
— Пусть жрут эти пенсии, лишь бы людей и государство не жрали. Но, по твоим словам, не быстро мы избавимся этих нахлебников?
— Да, наверное, на наш век хватит и прилипал, и бюрократов, и алчных жестокосердных людей, и невежд, смотрящих не в душу человека, а на свой живот.
— Не прибавил ли ты им возраста?
— Навряд, деда. Они о своем долголетии больше заботятся, чем мы.
— Умеешь ты, Петр, утешать человека, как скотобоец молотом. Подержи фонарь.
Старик засветил огонь, снова пошел к конюшне, но уже избегал смотреть лошадям в глаза. К нему потихоньку подошел широкогубый конюх Максим Полатайко. В невысокой крупной фигуре мужчины было что-то от комля, но это не мешало ему проявлять в некоторых делах удивительную ловкость. Максим из-под самого носа опытных сторожей, шутя, мог украсть для лошадей с десяток снопов овса или ночью выкосить чечевицу или вику на полях соседнего колхоза. Даже сейчас его любимцы были похожи на коней, потому что он откуда-то тайно приносил им в сумке или рептухе[32] какой-то дополнительный рацион. Когда же Максима ловили на горячем, он с таким трагизмом и слезой выступал в защиту коней, что ему все прощалось. Из-за того мужчину прозвали Артистом, но он даже таким прозвищем не гордился и не утешался, потому что не был честолюбивым. Сейчас Максим беспокоился: этой ночью он обрыскал два наиболее надежных амбара, но не нашел там и горсти овса. Правда, он таки набил свою сумку турецким бобом, но его надо было перемолотить на жерновах. Этой машинерии у Максима не водилось, а ткнуться к соседям не очень хотелось.
— Что же делать, деда? — Максим скривился всем лицом и повел головой в сторону коней. — Когда плачет человек — можно выдержать, а когда плачет скотина — не выдерживает сердце.
— Твои еще не плачут.
Максим пропустил намек мимо уха и продолжал свое:
— Что-то детское есть в лошадином плаче. И кричат они, как дети. Я на батарею подвозил снаряды. Ну, подо Львовом на рассвете и накрыли меня миной. Как раз, стерва, под копыта моих вороных шлепнулась. Я еще увидел, как обрисовались и рванулись они в огненном столбе, а потом так заголосили, закричали, что и я заплакал и, придерживая руками свое мясо, пополз к ним. А они на перебитых ногах потянулись ко мне, губами целуют меня, а у самих, невиноватых, слезы, как фасоль, летят… Так что сейчас надо делать?
— Возьмемся, парень, за воровское ремесло, может, оно немного поможет нам, — понуро, но твердо ответил старик.
— Да что вы, дед, против ночи говорите!? — изумленно развел руками Максим. — Все село знает, что вы нигде даже былиночки не подняли чужой.
— Что правда, то правда, а сейчас пойду на такой позор, потому что иначе, значит, нельзя. — Старик призадумался, пристально взглянул на Максима, который чуть ли не танцевал, найдя себе такого соучастника. — Не брыкайся. И слышишь, не всякая кража является воровством.
— Это уже что-то новое даже для меня, — аж рот разинул Максим.
— Помнишь, в книжках писалось о том великом человеке, что украл у бога огонь для людей. А его еще и хвалят. Вот и выходит: не всякая кража — воровство. А мы с тобой не такие большие люди, вот украдем для коней сена. Поедешь со мной или побоишься?
— И вы не шутите? — еще спросил с недоверием, а глаза воспылали воровским блеском.
— Не до шуток теперь.
— Тогда поехали! Сейчас же! — и парень бросился отвязывать выездных коней.
— Где же вы нагибали[33] это сено? — изумленно раскачивался на журавлиных ногах Петр Гайшук.
— Там, где ты рыбу ловишь.
— Так это же сено вашего кума! — аж вскрикнул Гайшук.
— А кум всегда косит сено, как барвинок, не ошибемся.
— Это так, а не иначе! — Гайшук полез рукой к затылку, не знал, что делать: или смеяться, или возмущаться. — Можно сказать, по-родственному.
— Летом по-родственному, так же как и взяли, отвезем куму сено. Не хвалился часом кум, что завтра поедет на ярмарку?
— Хвалился. Ему не терпится всем рассказать, что имеет такую большую радость.
— Это хорошо, — ответил своим мыслям старик. Скоро воз, разбрызгивая грязь и хлюпая по лужам, выкатился на мягкую луговину. На ней темными птицами очерчивались кусты ивняка, а между ними тревожно билась и стонала, словно раненная, невидимая вода.
Чуть ли не из-под копыт лошадей с треском и хлопаньем вылетела пара крякв, их сразу проглотило влажное нутро беззвездной ночи. И после этого захотелось лететь деревьям, они замахали своими крыльями, роняя на землю благоухание уже полураспустившихся почек. Беспокойно в этом году шла весна по земле, и тревожно встречался с ней дед Евмен. Подумать только: не к плугу, не к сеялке, не к чистому зерну, а к чужому добру потянулся он. Даже если не поймается, шила в мешке не утаишь, и что тогда подумают, заговорят о нем?! Ну, и пусть говорят и судят по всему району, а кони должны жить. И, чтобы ободрить себя, он прикасается рукой к плечу Максима.