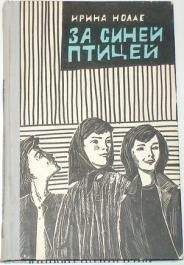Белоненко согласился, что дружба эта не может быть вызвана никакими благородными порывами со стороны Волкова, а Антон Иванович продолжал:
— А вот только что узнал я такое, что прямо к вам. Чтобы вы, как начальник, приняли свои меры. Про Румына такого слышали? Так вот, получил этот Волков от того Румына записочку, и читал он эту записочку моему пацану. Дело было так. Сегодня Волков по наряду дежурил в столовой, а я зашел в свою каморку. Перегородочка там — сами знаете — только для видимости, ширмочка, а не перегородочка. И слышу, как верзила этот шепчет кому-то про Румына да про записку. «Ты, говорит, пацанам ее прочитай. Мне веры здесь нет, а тебя ребята любят». Я к стенке приник и узнаю подробности. Будто пришло с фронта письмо от бывшего нашего заключенного Зелинского. Что он в нем пишет, не знаю, а только, видно, от того письма у Румына и сон отшибло.
— А с кем Волков разговаривал? — спросил капитан.
— Так с Петькой же! И записочку эту ему оставил. Хотел я тут же выйти и жару нагнать, да потом рассудил, что без вас в это дело мне соваться нет такого права. Теперь, я так думаю, самое время эту записку у Петьки из кармана забрать. Заснули там все, а записка или в брючонках, или в телогрейке.
Антон Иванович замолчал, ожидая, что скажет начальник. Белоненко задумался. Изъять записку из кармана Пети Грибова — это дело несложное. Но может быть, что записка не в кармане, а спрятана под подушку. Кроме того, если ее взять, то, пожалуй, Пете Грибову достанется от Волкова за потерю этого документика. И наконец, записка эта поможет выявить тех, в которых Волков думает найти своих единомышленников.
— Хорошо, Антон Иванович, — сказал наконец капитан. — Все это я приму к сведению. А вас попрошу ни одним словом не напоминать Пете Грибову о записке. Сделайте вид, что вам ничего не известно.
— Понятно, — кивнул головой повар. — Только, гражданин начальник, учтите такое положение, что в воровском мире сейчас броженье пошло. Знакомы мне такие истории. Если кто из крупных воров, по-блатному говоря, «ссучится», извиняюсь за выражение, то остальные на дыбки становятся, чтобы, значит, воровской авторитет поддержать. Принимают свои меры… Такое и здесь у нас началось: одни за старое хватаются, а другие в затылках чешут: чем я хуже того Николы Зелинского, что на фронте сражается, кровь свою за родину проливает?
Уже прощаясь с капитаном, Антон Иванович добавил, что если еще раз заметит Волкова рядом с Петькой, то «свернет этому бандиту голову». Белоненко попросил его не торопиться. На том и порешили.
После ухода Антона Ивановича Белоненко еще раз прочитал все, что было записано в «летопись ДТК „Подсолнечной“» о Викторе Волкове. Теперь ему стало многое понятно — и «дружба» с Грибовым, и частые беседы с Анкой Воропаевой. Белоненко хорошо знал, что если «выступил» Румын, то не замедлит сказать свое слово и его ближайшая приятельница Любка Беленькая. Не сомневался капитан и в том, что письмо с фронта произведет соответствующее впечатление на уголовников, содержащихся в лагере. Начнется неизбежный «раскол». Прав Антон Иванович: одни начнут колебаться, а другие — принимать контрмеры. И, конечно, не оставят без внимания и колонию, стараясь и сюда занести заразу: разложить ряды воспитанников, спровоцировать их на какие-нибудь выходки, направленные против администрации и режима, а может быть, склонить и на прямой бунт. Ленчик Румын и Любка Беленькая могут здесь рассчитывать только на вновь прибывших. А таких было двое — Волков и Воропаева.
«Вот когда можно доказать Гале Левицкой необходимость систематического наблюдения за воспитанниками», — подумал Белоненко, пряча «летопись» в несгораемый шкаф.
Было уже около часа ночи, но Белоненко не мог уйти домой: днем была восстановлена телефонная связь с Управлением, — значит, должна быть телефонограмма. Телефонистку Белоненко отпустил — его соединят через коммутатор Управления.
Хотелось спать: сегодня пришлось подняться очень рано. Тетя Тина готовилась к побелке и разбудила его чуть свет. «Часам к семи вечера управлюсь, и ты, пожалуйста, приходи домой пораньше. Измотался совсем», — сказала она. О том, что «измотался», тетя Тина говорила своему названому сыну вот уже добрый десяток лет. И о том, что «работа работой, а о себе подумать тоже надо». И о многом другом, имеющем отношение к личной жизни Ивана Сидоровича. Говорила скорее для успокоения себя, чем в надежде, что слова ее окажут хоть какое-либо воздействие на «Иванчика». Вспомнив это смешное производное от своего имени, Белоненко улыбнулся. Хорош Иванчик! Через два с половиной года стукнет тридцать семь. Конечно, для тети Тины он и в пятьдесят будет Иванчиком. Этим именем она назвала его впервые, когда привела его в очередной детский распределитель, где Алевтина Сергеевна, тогда еще двадцативосьмилетняя женщина, работала кастеляншей — заведовала скудным запасом белья детприемника и большим количеством буденовок и поношенных гимнастерок, на которых еще сохранились следы нашивок — «разговоров», как назывались тогда знаки различия комсостава Красной Армии. Ванька Шкет поглядел на кастеляншу и после некоторого колебания спросил, указывая на ее спину:
— Это у тебя давно? Небось все с книжками сидела, вот и нажила себе горб.
Алевтина Сергеевна не обиделась, не сверкнула сердитыми глазами на мальчишку, бесцеремонно задавшего ей такой больной вопрос.
— Нет, — ответила она, — это не от книжек. Это меня еще маленькой бабка из люльки уронила.
— Убить надо было такую бабку, — нахмурился Ванька Шкет, — не умеешь с ребятишками водиться — не берись.
С этого разговора началось их знакомство, перешедшее потом в дружбу. И Алевтина Сергеевна сразу назвала Ваньку Иванчиком и в течение десяти дней, пока «Иванчик» находился в детприемнике, заметно выделяла его из числа всех прочих беспризорников. А на одиннадцатый день Иванчик сбежал — в гимнастерке, доходившей ему до колен, и буденовке, налезавшей на нос. На одиннадцатый сбежал, а на четырнадцатый был вновь задержан и направлен в тот же детприемник. Может быть, его бы и не задержали, но Ванька Шкет однажды почувствовал странную тяжесть в голове, а во всем теле неприятный озноб. Он не знал, что такое болезни вообще, но о тифе понаслышался достаточно. «Помру, — решил он, — от тифа никто не поправляется». И решил «помирать» в Александровском сквере, что тянется вдоль стен Кремля. Тут его и обнаружили.
В детприемнике Алевтина Сергеевна встретила его сурово.
— Что тебе — худо здесь, что ли? — начала она выговаривать ему, хмуря жидкие, светлые брови, но, взглянув на лицо Иванчика внимательнее, ахнула, схватила его за руки и, воровато оглядываясь по сторонам — нет ли посторонних, зашептала что-то о болезни, о температуре, о том, что она его сейчас же заберет к себе, потому что в больнице он «не вытянет». И забрала. Никакого тифа у Иванчика не было, но простудился он основательно. А когда поправился, то сказал: «Останусь с тобой. Возьми меня в дети. Иззяб я весь по этим котлам».
Иван Сидорович походил по кабинету, чтобы прогнать дремоту, послушал у окна, как бьется в стекло снег. Подумал, как всегда думают люди, когда они находятся в непогоду в теплой и тихой комнате, о тех, кто, может быть, сейчас бредет в буране, теряя последние силы.
Потом он сел в угол жесткого дивана и закрыл глаза. Видимо, он все-таки немного вздремнул, потому что, когда раздался наконец ожидаемый звонок, стрелка стенных часов показывала без десяти два.
— …ите… ую… аму… — расслышал Белоненко далекий голос.
«Примите срочную телефонограмму», — расшифровал он обрывки слов и придвинул бумагу ближе к свету.
В трубке затрещало, потом наступила мертвая тишина. «Неужели опять обрыв?» — подумал Белоненко, но в этот момент отчетливо и бесстрастно зазвучал женский голос:
— Начальнику детской трудовой колонии капитану Белоненко…
Карандаш быстро скользил по бумаге, оставляя причудливые значки, — капитан стенографировал.
Культурно-воспитательный отдел Управления Энских лагерей предлагал всем начальникам подразделений ознакомить заключенных с содержанием письма Николая Зелинского, которое было датировано 28 декабря 1942 года.
«…У меня нет сына, которому я мог бы написать это свое, может быть последнее, письмо. У меня нет жены, которая подумала бы обо мне в эти минуты. У меня нет матери: она умерла от горя и вечного страха за своего сына-вора. Ей не было еще и пятидесяти лет… Это я свел ее в могилу и отравил ее жизнь.
Когда ворье собирается вместе, особенно в неволе — в камерах тюрьмы, в этапном вагоне, в бараках лагерей, — они поют жалостливые песни о „родной матери“, о „любимой“, о тоске по родному дому. Все это ложь и обман. Воры никого и никогда не любят, никого и никогда не жалеют. Они не думают о своих матерях, у них не может быть любимых. Они лгут всю жизнь, всю жизнь выдумывают себе то, чего у них никогда не было и быть не может. И возможно, только один раз за свою позорную и никому не нужную жизнь воры вспоминают мать — перед смертью.