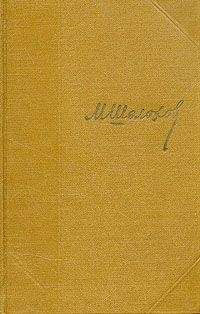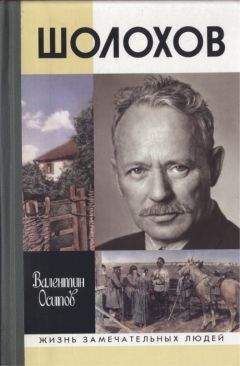В вагоне едем туда. Приятно.
Через вшей я от эшелона отстал, пошел на станции парить их в бане. Убиваю их там, сижу, смеюсь про себя: «Вот, мол, с кем я нажил, с кем я прожил, с кем я по миру пошел». А эшелон сгребся и уехал. Приятно.
Я в Саратов. Нету ни Гольдина, ни нашего Донпродкома. Спрашиваю: куда делись? Гольдина, дескать, в Тамбов послали накомиссаровать, и продком за ним хвостом потянулся. Приятно. «А промежду прочего подите, — указывают мне, — в Донисполком, там узнаете». — «Где Донисполком?» — «В гостинице «Россия». Приятно. Прихожу. «Здесь Донисполком?» — «Здеся, отвечают, второй этаж, третий нумер». Подхожу, скребу ногтем дверь: «Разрешите?» — «Пожалуйста, пожалуйста». Вхожу, глядь — комнатушка, и в ней два человека. Один чернявый с бородкой, цувильный такой снаружи, а другая — благородная барышня, сидит за машинкой. «Извиняюсь, говорю, попал в обратную комнату», — и ручкой этак вокруг. «Вы и есть Донисполком?» — «Мы, говорит. Я председатель Медведев, а это мой технический работник». — «А я, — говорю гордо, — Птицин Игнат из Донпродкома, не слыхали? Нет? Жалко! Очень вы, товарищ Медведев, низко живете». Он плечиком дергает: низко, мол, но ничего не попишешь, выше того, сего не прыгнешь. «Не знаете, спрашиваю, где наш Донпродком?» — «Не могу знать», — говорит он жалостным голоском и приглашает на чистый стул садиться. Я, конешно, сел.
Объясняю, что вроде Донпродком поехал в Тамбов. Медведев и возрадовался: «Вот что! Очень рад! Донпродком у меня, значит, в Тамбове, Донземотдел — в Пензе, административный — в Туле, а где же военный? — Пальчики загинает на счет и спрашивает у благородной барышни: — Скажите, где у нас военный отдел?» А она улыбается с нежностями и говорит: «Не могу самой себе вообразить».
До того они мне рады были, дюже уж без людей наскучали, чаем угощают. Чаю дали, а сахар забыли. Приятно. Кипятком налился и говорю: «Извеняюсь, больше двух стаканов не пью». Они испугались, зачали мне сахару в стакан класть, но я строго говорю: «Пишите мне литеру в Тамбов».
С тем и уехал. Нашел в Тамбове ребят, а вскорости начали белые уходить к морю, а нас, Донпродком, послали в Ростов.
Гольдин успел убечь, горизонты, мол, тонкие, на этой работе, поеду в Сибирь. Заместитель его тоже убег. Пока ехали — девять штук этих замов сменилось. Дошла очередь до меня. Приятно. По старшинству. Жду не дождусь, когда последний зам сбежит. Убег с Филоновской обратно в Тамбов, я ему за это из своего пайка окорок отдал и фунт табаку. И стал я «заместителем» Донпродкомиссара. Очень приятно, думаю, приеду в Ростов, уж я там принажму. Два вагона у нас: под людей и под книги. Из Москвы нам перед отъезжанием прислали и печати и книги.
Едем на Царицын. После Кривой Музги мост белые порвали. Пешеходной кладкой прошли мы на эту сторону. Добрались до станции и взяли два вагона! А гнать их нечем — паровоза нету. Что делать? Придумали, запрягли по паре быков да по верблюду в пристяжку в каждый вагон, к буферам пристроили барки и едем.
Я, конешно, у верблюда промеж кочек сижу, тепло и не качает.
И таким разом у кажного моста на эту сторону перейдем, запрягаем в вагоны верблюдов либо апостолов, у каких два рога костяных, а два шерстяных, и продвигаемся.
Только на вторые сутки захворал я. Вступило колотье в спину. Смерть в глазах — и всё! Ребята мне советуют — оставайся у жителей, а после приедешь, а то издохнешь в теплушке. Приятно. А колет — мочи нет!
Привели они меня на хутор возле какого-то полустанка и говорят хозяйке: «Ходи за ним, тетка, отблагодарим посля».
А тетка-вдова оказалась переселенка из Сибири. Баба здоровая, лет пятидесяти и на морду не баба, а конь пегий. Ноздри рваные, глаз косой, хучь соломой его затыкай.
Ушли ребята — она и запела: «Одной скушно жить, вот выздоравливай, солдатик, обженимся и будешь хозяйством править, муж мой в прошлом году помер, а я — баба в соку».
А и где же там в соку, не приведи и не уведи. Ну валяюсь на лежанке, хвораю. Ведьма моя все допытывается: «Женишься, будешь зятем?» — «Женюсь, говорю, корова ты рябая, режь овцу, корми, а то толку не будет».
Зарезала барана, кормит, я лежу без памяти и баранину ем неподобно. А хозяйка меня все по-своему, по-сибирски зятем кличет: «Зеть да зеть». Э-эх ты, думаю, сам для себя зеть, мать твою бог любит. Пропадешь, как вша, приспит тебя такая туша. В ней ведь без малого девять пудов. Приятно. Одного барана съел, она другого не хочет резать.
«Как, говорю, дьявол пухлый, не хочешь резать? С голоду, что ли, выздоравливать?» — «Ты, мол, нынче баранью лытку слопаешь да завтра, а их у меня в хозяйстве всего пять овечек…» — «Погибай, говорю, со своими баранами. Ухожу!»
И ушел! Через сутки сгребся и пошел. Догнал свой эшелон под Ростовом.
Приезжаю в Ростов. Бросил я эшелон, иду прямо к председателю.
«Здрасте, говорю. Мы, говорю, заместитель Донпродкома».
Председатель очки снял и трет их и трет. Под конец спрашивает:
«Вы, товарищ, не больной?» — «Нет, говорю, поправился». — «Откуда вы?» — «С вокзалу!»
«Какой же Донпродком? — спрашивает он и от сердитости начинает синеть, как слива. — Вы что, мол, смеетесь?» — «Какой смех, говорю, мы из Курска приехали — вот печати Донпродкома», — вынаю из кармана и бряк их на стол. — А книги с ребятами на вокзале».
«Подите, говорит, на Московскую и поглядите на настоящий Донпродком. Он уже полтора месяца существует. А вас я в упор не вижу».
Пот с меня так и потек за рубаху. С вокзала идем с ребятами на Московскую.
«Это здание Донпродкома?» — «Это».
Родная наша матушка! Стоит обыкновенное здание в пять этажов, а народу в нем, как семячек! Барышни благородные на машинках строчат. Щетами тарахтят. Волосья на нас стали дыбом. Идем в дом к продкомиссару: так и так, мол, не по праву вы тут сидите.
А он тихим голосом отвечает и улыбается: «Вы бы полгода ехали, а вас бы тут ждали. Езжайте, говорит, в Сальский округ агентом».
Приятно. Я тут, конешно, обиделся, подперся в бока и говорю ему: «Бумажки чернилом подписывать, это необразованный сумеет. Ишь ты — бухгалтера у них, барышни благородные с ногтями. Нет, ты попробовал бы по закромам полазить, чтобы пыль тебе во все дырки понабилась».
И уехали. Чего с бестолковым человеком делать? Он не понимает, а я иду и серьезно думаю:
«Пропало в области дело! Какой из него Донпродкомиссар. Голос тихий и сам с виду ученый. Ну, а с тихим голосом и пуда не возьмешь. Я, бывало, как гаркну, эх да что толковать! У нас ни счетчиков, ни барышнев, какие с ногтями, не было, а дело делали!»
1923–1925
О Колчаке, крапиве и прочем*
Вот вы, гражданин мировой судья… то бишь, народный… объясняли на собрании, какую законную статью приваривают за кулачное увечье и обидные действия. Я и хочу разузнать всчет крапивы и прочего… Я думаю, что при советской власти не должно быть подобных обхождениев, какое со мною произвели гражданы. Да кабы гражданы — еще пол-обиды, а то бабы! Посля этого мне даже жить тошно, верьте слову!
С весны заявляется в хутор наша же хуторная — Настя. Жила она на шахтах, а тут взяла и приехала, черт ее за подол смыкнул!
Приходит ко мне наш председатель Стешка. Поручкались с ним, он и говорит:
— Ты знаешь, Федот, Настя с шахтов приехала. Стриженая под иголку и в красном платке!
Ну, в платке и в платке, мне-то что за дело? Конешно, обидно: баба, а почему вдруг стриженая? Однако смолчал, спрашиваю:
— На провед родины явилась иль как?
— Какое там на провед!.. — говорит. — Баб наших табунить будет, организацию промеж них заколачивать. Теперя лупай обоими фонарями, свети в оба! Чуть тронешь свою бабу, — за хвост тебя, сукиного сына, да в собачий ящик!
Поговорили о том, о сем, он и делает мне предложение:
— Отвези ее, Федот, в волость. Она при документе и следует туда занимать женскую должность, навроде женисполком, что ли, чума их разберет. Вези засчет мово уважения!
Я ему резон выкладываю:
— Вам, Стеша, уважение, а мне гольная обида. В рабочую пору лошадь отрывать несходно.
— Как хочешь, — говорит, — а вези!
Приходит ко мне эта Настя. Я, чтоб не мутило на нее на стриженую глядеть, с глаз долой скрылся, ушел в степь за кобылой. А кобыла у меня, доложу вам, от истинного цыгана: бежит — земля дрожит, упадет — три дня лежит, одним словом, помоги поднять да давай менять. Я до скольких разов на нее с топором покушался, жалко только — сжеребанная…
Покель я ее ловил да уговаривал — не брыкайся, мол, дура, не абы кого повезешь, а женскую власть, — а Настя с моей супружницей уж скочетались.
— Бьет тебя муж? — спрашивает.
А моя сдуру, как с дубу:
— Бьет! — говорит.
Привел я кобылу только в хату, а Настя ко мне:
— Ты за что это жену бьешь?..
— Для порядку. Не будешь бить — спортится. Баба, как лошадь: не бьешь — не везет.