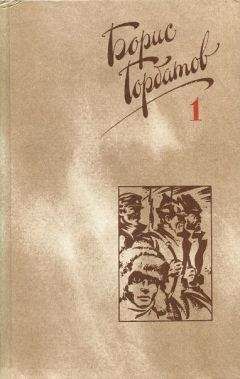Но не в почете были теперь богомольцы. Афонюшка еще ходил, ничего другого не умея делать, но чувствовал себя плохо.
— А теперь кому я? Куда мне? А, детушки? — обиженно бормотал он. — Вот ходил, ходил, всю жисть ходил, чего же я себе выходил? Растерянный я сейчас человек…
В Харцызске он свернул на запад — к Святогорску. Звал ребят с собой.
— Горы там, ах, горы, детушки, святые горы! А река, господи! Донец-река…
— Пойдем, что ли? — спросил Алеша товарища.
— Нет, — упрямо мотнул тот головой. — Нет! Нам сейчас на Волноваху надо.
Алеша засмеялся: «Надо»! Почему «надо»? Не все ли им равно, куда идти? Они брели сейчас по угольному району. Четыре-пять дней болтались на каком-нибудь руднике, потом Федор начинал нервничать:
— Ну, засиделись мы тут. Пошли дальше.
Алеше самому сначала нравилась эта кочевая жизнь. Он подчинялся Федору. Шли дальше. Федор совсем оборвался: у него теперь был вид настоящего босяка. Босой, в разорванной рубахе, рыжая волосатая грудь… «Летчики» перестали звать его «фрайером» и относились как к своему. Алеша обижался, когда его гнали с вокзалов в одной кучке с «летчиками». Он привел в порядок свою куртку, свои сапоги, он тщательно мылся, стал даже причесываться, по утрам долго воевал с вихрами, — без зеркала и щетки это было безнадежно…
Ему уже начинали надоедать эти бесконечные странствования. Раньше ему нравилось говорить себе, вступая в новое селение: «Вот я еще и тут побываю», и гордо попирать землю сапогом как завоеватель. Но все эти поселки были так однообразны! Алеша начинал думать, что пора домой.
Вечером он нашел в здании вокзала подробную карту губернии. Земля, которую он топтал рваными подошвами своих сапог, лежала теперь перед ним, обрезанная четырьмя линиями рамки. Он вспомнил: учительница показывала средневековый рисунок — путешественник лежит на краю земли и заглядывает в пустоту: что там? У путешественника в глазах страх и любопытство. И рука с растопыренными в волнении пальцами. Очевидно, за четырьмя рамками губернии есть еще города и дороги. Это в общем забавно.
Алеша без труда нашел свой городок. Вот отсюда они вышли на юг. Голубовские хутора. Отсюда их выгнали. Село Ровное. Лавочник. Отсюда они ушли на юг. Станция Удачная. Отсюда опять на юг… Какая прямая линия! Что это? Случайность? Кривой Байрак, Щебенка… Опять прямая, как стрела, линия: на юг. Харцызск… А теперь Волноваха? А-а-а, так вот что…
Продолжая улыбаться, он рассматривал карту. Волноваха лежала уже совсем недалеко от синего моря. Железнодорожная линия, извилистая, как виноградная ветка, со всего разбега падала в море. Алеша представил, как длинный товарный состав врезается в мутные азовские воды. Пена бьется вокруг колес.
Потом он задумывался: что же, идти на Волноваху? Ковбыш тянул к морю, он угадывал дорогу, как перелетная птица, — безошибочно, нюхом. Или у него маршрут давно подготовлен? Что же, идти на Волноваху? Или свернуть назад, домой?
Домой? Зачем? На биржу? А к морю зачем? В грузчики? На пароходик? Соленая профессия, конечно, у моряка — профессия подходящая. Но Алешина ли она? Что же, идти на Волноваху?
Он пошел бродить по перрону. Теплый ветер обнял его за плечи, как старший брат обнимает младшего. В депо шипели паровозы. С рудника доносилась песня. Что же, идти на Волноваху?
Федор твердо хочет стать моряком. Павлик — слесарем, Юлька — инженером-электриком. Чего же он хочет? Ведь ему уже шестнадцатый год идет!
Последние дни они с Федором работали на маленькой шахтенке, у арендатора Мандрыки. Это была плохая шахтенка. По кругу ходила унылая лошадь и вертела большой барабан. Вокруг барабана медленно обвивался канат. Когда канат полностью накручивался на барабан, из шахтенки выползала пузатая и словно удивленная бадья с углем. Когда канат раскручивался, бадья, медленно покачиваясь, скрывалась обратно. А лошадь все ходила вперед и назад по кругу, понурив морду и постыло отмахиваясь хвостом от мух. А за ней, спотыкаясь, брел погонщик и хрипло покрикивал:
— Но! Но!
Алеша и Федька стали работать вместе с добрым десятком таких же, как и они, ребят и дивчат наверху: на разгрузке, на относе штыба, на сортировке. Алеша стал на работу в семь утра, а в час дня он спросил у соседа, курносого парнишки:
— Где тут у вас руки моют?
— Зачем?
— Как зачем? Шабаш, брат…
Все бросили работу, чтоб посмотреть на чудака: ишь какой прыткий! Кто-то зло объяснил Алеше, что здесь работают двенадцать часов. Алеша объявил забастовку.
Сам Мандрыка прибежал успокаивать разбушевавшихся ребят. Алеша в тот же день побывал в профсоюзе… Хозяйчика тотчас же крепко оштрафовали, для ребят установили шестичасовой рабочий день, но Алеша с Федором уже пошли дальше. Восторженная ребятня провожала их до околицы.
Вот какой у него был талант и какая ему мерещилась профессия: владеть людьми, двигать ими, двигаться вместе с ними и во главе их.
Так что же, идти на Волноваху?
Ничего не решив, он вернулся на вокзал. Проходя мимо карты, он остановился. Вот городок. Вот Кривой Байрак. Вот Волноваха. Какое-то длинное слово, неразборчиво написанное, очутилось вдруг рядом с Харцыз-ском.
— Белокриничная, — с трудом разобрал он и вдруг ударил себя по лбу: — Белокриничная! Да ведь там Павлик!
— Мы не пойдем на Волноваху завтра, — сказал он твердо Ковбышу, — я хочу зайти в Белокриничную. Там у меня друг есть.
И где-то шевельнулось: «Может, больше и не придется свидеться».
— Ладно, — ответил, подумав, Ковбыш, — тут двенадцать верст. А оттуда — на Волноваху.
— Там видно будет.
Они вышли утром. Шли не торопясь и к полудню уже были в Белокриничной. Алеша не знал, как найти в поселке Павлика, и решил идти прямо на завод. Они прошли через главные ворота. Никто не спросил у них пропуска. Механический цех был ближе всего к воротам, и здесь они без труда нашли Павлика. Наклонившись над верстаком, Павлик обмеривал кронциркулем шпонку. Павлик был в темно-синей рубахе без пояса, мелкая железная пыль блестела на ней. Вокруг Павлика бродил солнечный луч. Он то бросался к ногам молодого слесаря, то перебегал по блестящей, как чешуя, рубахе, то полз по инструменту, золотя его и как бы подсовывая Павлику.
И Алеша смущенно подумал, что в сущности ведь Павлик занят, а они пришли ему мешать. Взглянул на босые ноги Ковбыша, на свои рыжие сапоги и решил, что надо уходить. В Волноваху? Там видно будет.
Что-то еще, какое-то еще чувство бродило в нем: зависть? обида? Он оправил рубаху и двинулся к выходу. Но в это время Павлик заметил его и удивленно окликнул. Они бросились друг к другу, оба смущенные и радостные.
— Ну, ну!.. Ну как?
— А ты?
— Нет, здорово!
— Да, да!..
Они не могли найти настоящих слов, мяли друг другу руки и взволнованно смеялись. Наконец, Алеша спросил:
— Как жизнь? Работаешь?
— Работаю… А ты?
Алеша смутился и ответил тихо:
— А я хожу…
Павлику нельзя было долго разговаривать: уже сердито поглядывал на него мастер Абрам Павлович.
— Вы подождите меня, — сказал Павлик ребятам, — скоро шабаш.
— Хорошо!
Ребята вышли из цеха и очутились на тесном заводском дворе. Мимо них, пронзительно крича, пронеслась «кукушка». Машинист высунулся из окошка и что-то сердито крикнул Алеше. Только сейчас Алеша понял, что его чуть было не задавило. Он растерянно улыбнулся и сказал Ковбышу:
— Тут гляди, Федя, в оба!..
Из котельной со свистом и шипением вылетал пар. Он рвался, хрипя и беснуясь, словно кто-то схватил его за глотку и не пускал. Со всех сторон неслось гуденье, дребезжание железа, лязг, — звуки бушевали вокруг ребят, сшибали их, мальчики совсем потерялись в этом шуме.
Люди пробегали мимо них, хрипло крича. Они говорили, приложив ладонь ко рту, слабые их голоса тонули в заводском гуле, и Ковбышу показалось, что на заводе случилось несчастье, катастрофа, все взволнованы, все в смятенье, все бегут и кричат, не слыша друг друга.
Он испуганно осмотрелся вокруг: куда деваться? — и вдруг увидел: на опрокинутой «козе» лениво лежит каталь и курит, медленно и смачно выпуская дым. Синий легкий дымок колеблется в воздухе и тает. Каталь затянется, выпустит дым, зевнет и опять затянется.
— Никогда я не видел завода, — тихо произнес тогда Ковбыш и вытер пот со лба.
Но и Алеша стоял как пришибленный. Он тоже не видел никогда такого большого завода. Разве завод, где работал отец, — завод? Мастерская!
Раньше Алеша считал себя заводским человеком и гордился этим. Но вот что-то гудит нетерпеливо и неукротимо, — похоже, что ветер бьется, скованный железом. Что это? Лежит кирпич странного цвета: светло-розовый. В нем круглые дырки. В одной кирпичине — одна дыра, в другой — три, в третьей — вовсе желобок. Зачем? Откуда-то сбоку из-за печи вырывается ровное синее пламя, — что случилось?