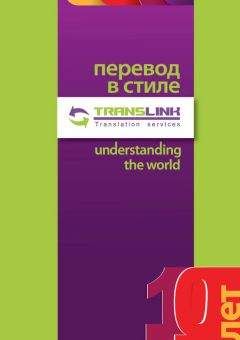— Да, Шуваев, правильно, — сказал Федор, — другого выхода у нас не было. Английские и французские представители во время переговоров хитрили с нами. А сами только о том и думали, как бы столкнуть нас с немцами. Так что, когда Германия предложила нам подписать договор о ненападении, почему, собственно, мы должны были отказываться? Не играть же на руку английским и французским правительствам, которые отказывались совместно выступить против Гитлера.
В этот вечер Федор Ставров долго сидел с солдатами у костра, рассказывал им о политике Советского правительства, слушал их скупые рассказы о домашних делах. Утром он узнал, что весь корпус снимается с места, должен немедленно двигаться на запад и сосредоточиться на линии местечко Узда, станция Негорелое. Когда были свернуты палатки, а все полковое имущество погружено на автомашины и телеги, в полку состоялся короткий митинг. Приехавший из штаба армии незнакомый Федору бригадный комиссар обратился к притихшим эскадронам. Его протяжный, торжественный голос далеко разносило лесное эхо.
— Товарищи конники! — сказал бригадный комиссар. — Нашим войскам выпала высокая честь выполнить великую, историческую миссию. Сегодня по приказу Советского правительства мы начинаем поход, чтобы освободить сотни тысяч наших единокровных братьев украинцев и белорусов, долгое время страдавших под игом польских панов, фабрикантов и генералов, которые беспощадно эксплуатировали трудящихся Западной Украины и Западной Белоруссии, а сейчас, не выдержав ударов немецкой армии, предали польский народ, бежали в Румынию, покинув страну на произвол судьбы. Каждый из нас, советских бойцов, должен твердо знать: мы переходим прежде несправедливо навязанную нам границу не как враги польского народа, не как завоеватели, а как освободители. Этим и только этим должно определяться и наше отношение к населению, будь то поляки, украинцы или белорусы…
Казачий кавалерийский корпус, куда входил полк, должен был перейти границу семнадцатого сентября, в пять часов утра, и двигаться в направлении Столбцы, Новогрудок, Волковыск, Гродно, Августов, Сувалки.
Вместе с командиром эскадрона, своим другом Измайловым, политрук Федор Ставров ехал впереди растянувшихся по дороге всадников. Солнце еще не взошло. За их спинами неярко алела утренняя заря. Молодая рыжая кобылица Ставрова горячилась, от ее шеи привычно пахло потом, позвякивали стремена. На невысоком холме возле полосатого пограничного столба с Государственным гербом СССР Федор увидел группу командиров с расшитыми позументом рукавами. Он узнал командира корпуса. Двое спешившихся кавалеристов, ловко орудуя саперными лопатами, выкапывали столб.
— Этот пограничный знак, — громко и весело сказал командир корпуса, — мы возьмем с собой на новую границу и установим там, где кончается украинская и белорусская земля, там, где прикажет наше правительство.
Один за другим проходили эскадроны. Люди при виде начальства подтягивались, косили глаза в ту сторону, где стоял высокий, плечистый комкор.
С этого сентябрьского утра для Федора и его товарищей по эскадрону потянулись дни и ночи, похожие на сказку. Полк форсировал Неман и Шару, Зельвянку и Котру, пробирался через леса, болота и озера, и везде, где проходили советские кавалеристы, — в городах и местечках, деревнях и малых хуторах — жители встречали их цветами, приветственными криками, радостными улыбками. Обнищавшие крестьяне, главным образом украинцы и белорусы, а также польские крестьяне, которых помещики обирали не меньше, не могли не радоваться освобождению. Рабочие заводов сами ловили и обезоруживали ненавистных жандармов. От советских войск бежали без оглядки только те, кто уж очень насолил народу и потому боялся наказания и расправы.
Были, однако, и случаи нападения различных банд. Кое-где пытались сопротивляться группы разбитых немцами польских полков, которые в слепом отчаянии не знали уже, что им делать и с кем сражаться. Сопротивление это быстро подавлялось. Перед нашими воинами была поставлена цель: освободить западные области Украины и Белоруссии.
В Белостоке командир кавалерийского корпуса встретился с немецким генералом. Надменный немец, выполняя приказ Гитлера, отвел свои войска из Белостока. Корпусу было приказано занять линию Пружаны, Белосток, Ломжа, Августов, Сувалки. На всей повой границе друг против друга теперь стояли армии СССР и Германии. По просьбе миллионов жителей освобожденной территории их земля воссоединилась с Советской Украиной и Советской Белоруссией. Люди обрели подлинную свою родину и свободу.
2
Как только пароход приплыл из Испании в Советский Союз, Селищева и Бармина направили в госпиталь, стали лечить. Оба радовались, как дети. Максим сразу же написал короткое письмо Тае, просил дочь приехать, чтобы им поскорее обнять друг друга и теперь уж никогда не расставаться.
— Не горюй, Петро, — утешал Максим своего молодого товарища, — в одиночестве ты не останешься. Поначалу мы поживем у моей Таечки, она и тебя приютит, как родного. Отдохнем, осмотримся, подыщем себе работу и будем с чистой совестью трудиться на своей земле…
Все было спокойно до тех пор, пока у них не были залечены раны. Когда пришла пора выписки, в госпиталь приехали двое в темных пальто и в шапках, отыскали в палате Максима, потом Бармина, вызвали их в коридор, спросили фамилии и предъявили документы сотрудников НКВД. Попросили вполголоса:
— Переоденьтесь. Поедете с нами.
Максим не почувствовал страха. «Это должно было случиться, — все время уверял он себя, — без проверки нельзя. Допросят, проверят как положено и освободят. Лишь бы не очень долго тянулась эта канитель. Жаль только, что Тая не успела приехать и повидаться со мной в госпитале. Ну ничего, потерпим немного…»
Однако после первого же допроса Максим пал духом.
В просторной комнате сидел за столом широкоплечий человек, похожий на красивого цыгана. Черные глаза его остро сверлили вошедшего в комнату Максима. Заметив, что Максим идет к столу, он остановил его возгласом:
— Садитесь на стул там, в углу.
Максим послушно сел, куда ему указывали.
— Я старший лейтенант Колошин, — сказал человек за столом, — мне поручено провести проверку, касающуюся вас.
…Ни Селищев, ни Бармин не знали, что сразу же по прибытии их парохода из Испании в Советский Союз раненый партизан-испанец Алонсо Карнеро, выполняя приказ командира своего отряда, поставил в известность советские органы государственной безопасности о том, как его спутники Максим Селищев и Петр Бармин оказались в партизанском отряде. Он счел своим долгом коммуниста рассказать и о том, что оба указанных им лица, находясь в республиканской воне, сожгли какие-то бумаги, что вначале они выдавали себя за коммерсантов из города Лиона, а потом заявили, что находились у врагов-фалангистов, выполняли обязанности связных при советском инструкторе полковнике Якове Ермакове.
Придя с допроса, Максим лег, с головой завернулся в одеяло, но уснуть не мог. Еще на пароходе, по пути в Советский Союз, он предполагал, что его могут вызвать куда следует, чтобы допросить о службе в белой армии и жизни за границей. Это, как он думал, было бы естественно и объяснимо. О том, что не избежать им обоим проверки, сказал он и Бармину. Но первый же допрос показал, как много совершенно неожиданных обстоятельств сложилось не в их пользу. «Кто скажет здесь о нас доброе слово? Кто заглянет в душу? В мире творится черт знает что, разве станут с нами церемониться?» Последняя надежда у Максима была на Тодора Цолова, но кто знает, где он сейчас…
Шли дни, недели, а на допросы Максима никто не вызывал.
Только потому, что по ночам в камере стало холодно, Максим Селищев понял, что наступили дни поздней осени. Кроме молчаливой старухи, которая ровно в час дня наливала ему миску супа или борща, да нескольких сменявших друг друга дежурных солдат, Максим никого не видел. Он привык к своему одиночеству, хотя и не перестал думать о том, что, может быть, когда-нибудь неизвестные люди — там, в кабинетах на верхних этажах, — поймут, что он ни в чем не виновен, что напрасно держат его взаперти. «Это должно было случиться, — уверял он себя, — без проверки нельзя. Проверят как положено и освободят».
Перед ним часто возникали в памяти картины прожитой жизни, но он видел их как бы в недоступной дали, какими-то обрывками. То ему представлялось весеннее половодье в станичной пойме и вышедшие из берегов пойменные озера, в которых он, загорелый чернявый мальчишка, ловит с товарищами сазанов… то виделись ему проволочные заграждения на австрийском фронте, за которыми мелькали частые вспышки выстрелов, и он чувствовал под коленями дрожь своего пугливого коня… То мелькали бесконечные дни скитаний на чужбине с их тоской, голодом, унижением… То вдруг видел он — совсем молодой — жену, и он плакал от жалости к ней, Марине, и к себе.