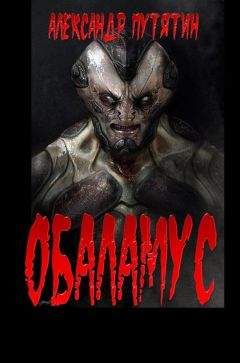— Вот каков у вас отец-то! Не всякий такой, как он!
Мальчишки не стали и есть больше — все сразу вон из-за стола. Александра прикрикнула было: «Сидите! Нечего бегать!» — но старик возразил:
— Пусть идут, похвастают! Этим не грешно и похвастать! Пускай.
Девочек сразу после ужина уложили спать, и, когда они остались вдвоем с Александрой, она протянула ему письмо и встревоженно спросила?
— Глянь-ка, что это?
Старик внимательно поглядел на столь дорогой им маленький листок. Половина строчек была смазана, к чернилам пристали малюсенькие земляные пылинки. Он сразу вспомнил, как однажды в окопах в передышку, прямо на коленях, писал домой письмо.
— Ничего дивного нет, — объяснил он снохе, — видела теперь, как на службе. Писал, поди, на воле, подошел командир, вскочил, а с письмом перед командиром стоять не положено. Он его и оставил на земле. А может, ветерок был, перевернул бумагу, или и сам в спешке положил не глядя. Дальше, вишь, все чисто. Сделал, что приказано, и дописал.
Александру вполне успокоило это объяснение, в котором неопровержимым было главное — муж жив. Письмо это твердо сказало старику — немцы к ним никогда не придут. Надо было успокоить других. И на второй день, и на третий он говорил людям:
— Миша мой не велит беспокоиться. Так и пишет — не беспокойтесь. И, знамо дело, поклоны всем. Никого не обошел, не забыл.
Недоверчивые сомневались:
— Почем он знает, али большим начальником стал?
— Начальник не начальник, а трепаться он не будет, сами знаете.
Михаила знали человеком серьезным, и возразить было нечего,
14
Готовились в армию молоденькие парнишки. Гуляли.
Вечером, как стемнеет, тренькала балалайка или заливалась, плакала гармошка, звучали припевки. Он, не смыкая глаз, ходил от овина к овину, опасаясь пожара. Ходил и слушал эти исповеди сердца.
Ой, в поле белую березоньку
качает ветерок.
Я пришел к тебе, хорошая,
в последний вечерок.
Задумчиво, медленно — тягуче, точно маленькую песню, — пел парень под грустный наигрыш балалайки.
Высоки песчаны горы,
что ж вы осыпаетесь?
Пареньки в семнадцать лет,
куда ж вы собираетесь?
Отвечая его чувству, так же медленно, переживая каждое слово, пела девушка. А в другом месте заливалась гармошка, шпарила плясовую.
Когда на цветущий луг обрушится вдруг град, обобьет лепестки с цветов, погнет, поломает стебли, жалко и больно смотреть на ощипанное, убогое теперь луговое разноцветье. Но цветы живут! Живут оставшимися лепестками, корнями, семенами, живут болью за себя. Живут, чтобы возродиться с былой роскошью и благоуханьем. И обитые лепестки долго еще не теряют своего цвета. Долго выжигает их краски солнце, отмывают дожди.
А бывает, ничто им нипочем — так и лежат, хоть и высохнув, вроде умерев: сиреневые, красные, синие… Глядя на молодых, он думал: «Гуляйте, милые, гуляйте! Гуляйте, пока молоды, пока можно…»
Ему было и грустно, и мило это.
Время шло к морозам. Хлеб прямо с гумна везли на сдачу. За вымолот каждого овина давали сразу зерном, и он особенно хорошо зарабатывал в эти дни. Молотила и Александра — тоже давали по три килограмма за овин. Но эта-то плата, как на картошке, и настораживала — думалось, а ну, как ничего больше не дадут? Разговоры и перешептывания перешли в ропот. Картошка у многих с участка была в достатке, а вопрос хлеба касался всех, и ропот перерос в возмущенный шум. В эти-то дни и приехал представитель из района.
Собрали всех на гумне, и представитель объявил, что надо отдать хлеб. Он не сразу объявил это, а поначалу рассказал, как шли дела на фронте и, главным образом, под Москвой, что было всем особенно важно. Все радовались, что фашисты остановлены, и скоро их погонят «от нашей священной столицы» — как с особенным подъемом сказал выступающий. Все долго и дружно аплодировали, и старик тоже. От полноты чувств у него даже глаза повлажнели, и он не заметил этой своей старческой слабости. Потом докладчик сказал:
— Каждое зернышко, каждый колос — это наш удар по врагу! Наши люди отдают все во имя победы и самое дорогое для человека — жизнь. Наш долг перед Родиной— отдать нашим братьям, мужьям, сыновьям, сестрам, сражающимся на фронте, работающим в цехах заводов, кующим оружие для разгрома проклятого врага, все, что мы можем, до последнего зернышка.
Тихо стало. И в этой затянувшейся тишине вдруг прозвучал отчаянный голос Александры:
— Мужа взяли, теперь детям с голоду помирать, что ли? Чем я их кормить буду? Чем?
— Мы знали, что могут найтись отдельные несознательные элементы, но мы не сомневаемся, что общий голос колхозников, голос патриотов своей Родины, будет отдан за полную сдачу хлеба! — прокричал представитель, но, видя, что все молчат, почувствовал, что говорил он не теми словами. Не так нужно было говорить этим старикам и женщинам. Задрожавшим и оттого сразу ставшим человеческим голосом он сказал:
— Нужда, неоцененные вы наши, заставляет… Понимаете — негде больше взять, негде… Враг хочет обессилить нашу армию голодом, посеять у нас раздоры и тем победить нас. Судите же сами…
По толпе прошел шепот, кто-то из женщин всхлипнул, кто-то крикнул, потом еще, еще.
— На картошке протянем…
— Не умрем, как-нибудь, чего там…
— Всем есть надо…
Старик вышел вперед.
— А вот что я скажу, — подождав, пока все угомонятся и станут слушать его, как это бывало всегда, начал он решительно. — Когда человек согнулся, так дело ли его в спину ткнуть, чтобы упал, а? — он обвел всех взглядом, как бы осуждая и спрашивая: что же это, подумайте? Потом повернулся к представителю и продолжал:
— Вот ты мою сноху обозвал несознательным элементом. А ты знаешь, как она работает? Али взял ляпнул и все? Она что, от дела пряталась когда или ленилась? В книжку ее поглядел бы, там написано, сколько у нее трудодней. Она и жала, и молотила не хуже других, это всяк скажет. Чего же ее обижать зря? — он говорил тихо и с болью, и представитель смутился.
— Мало ли как случится под горячую руку, дедушка?..
— Под горячую руку таких дел не делают, милый.
Представитель хотел было снова что-то сказать, но старик остановил его жестом руки:
— Погоди, не перебивай. Ты говорил — я слушал, послушай, что я скажу. У меня сын там, а тут она вот, — показал рукою на Александру, утиравшую с лица слезы, — и внуков шестеро. Ведь их надо кормить. Вот что надо рассудить. А надо, так последнюю рубаху отдам — не жалко мне! Я ведь небось на себе вызнал, что голодный да с голыми руками не навоюешь. Так что все надо в рассудок взять. А нужду нам не привыкать с плеч стряхивать. Сообща только надо, да все обдумавши. Ну оставь детей без хлеба, а потом на кого надежда будет, как их не станет? Это я и хотел сказать.
Представитель обещал, что доложит в райкоме и уж тогда выйдет окончательное решение. Решение это вышло скоро — полкилограмма хлеба на трудодень. По теперешнему времени прожить еще как-то было можно.
15
Только сняли с гумна последний круг снопов, подмели намолоченное зерно, как первая подвода привезла свежие снопы из скирды и остановилась рядом с овином. Мишка, тот самый подросток, что помогал старику стеклить рамы у беженок, принялся кидать снопы на полати овина. Одна из женщин подавала их в дверцу сушильни.
Солнце поднималось над черным оголившимся лесом, но еще не согнало с земли инея — было свежо.
После бессонной ночи и молотьбы старик пошел домой полежать, отдохнуть маленько. В поле у скирд грузили еще подводы. Ни ветерка, ни птичьего гомона из леса, только каркали вороны, пищали воробьи да где-то лаяла собака. Слышно было позванивание снопов, фырканье лошадей, перекрикивание женщин, скрип колес, даже звяканье дужки ведра от дальнего колодца. Привычная спокойная благодать.
Вдруг Татьяна замерла на скирде, потом показала в сторону леса рукою. Остановился, прислушался и старик. В торопливом взмахе руки Татьяны и в замерших, вытянувшихся фигурах женщин была видна испуганная настороженность. И почти тотчас он услышал бивший сильней и сильней по земле протяжный гул и увидел летевший навстречу солнцу низко над землей самолет. Из черточки он стремительно рос в ревущую, поблескивающую махину.
Он и не понял сразу, что значило это посверкивание и прорвавшийся сквозь рев мотора частый, сливающийся треск. Он видел только несшихся по полю перепуганных лошадей с телегами, с которых разлетались снопы, и на одной из них Ирину, натянувшую вожжи. Видел то скатывавшихся со скирд, то бестолково бегавших по верху и махавших руками баб. И лишь увидя, как словно чем-то шершавым продернули по скирде, взъерошив ее клочьями, испуганно вскрикнул и бросился наперерез Ирининому возу, крича:
— Беги, беги!