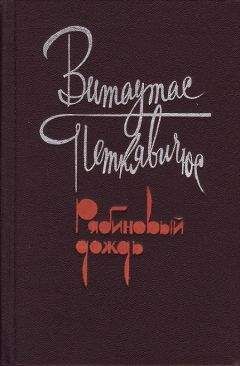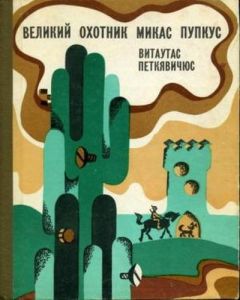— Если вы так хорошо разбираетесь в автоделе, тогда, может быть, вам следует попроситься в автоинспекцию?.. Руководить районным отделением, мне кажется, вам слишком трудно. Кроме того, в вашем районе нет таксопарка; провизором, проверяющим личные аптечки, я не могу вас назначить, словом, расстанемся по-хорошему.
— Но ваша дочь…
— Странно вы, товарищ Милюкас, жалобы проверяете: сначала люди для вас лично, по заказу, писать начинают, а потом — против вас пишут, бумагу портят… А какую должность в нашем ведомстве занимает моя дочь?
— Не знаю.
— А я знаю: никакой! Она — обыкновенный фельдшер.
— Но мы обязаны проверять жалобы…
— Не обязаны! В данном случае вы были обязаны переслать их по месту жительства Моцкуса. Ведь вы знали, что он коммунист, ученый… Понимаете, ученый! И позволили себе обойтись с ним как с всамделишным преступником. Где ваше чутье?
— Мы на фронте вместе…
— Тем более стервец! — окончательно взбесился комиссар. — Это не по-мужски. У тебя бабы никогда не было?
— Так точно, товарищ комиссар первого ранга.
— Была или нет?
— Нет.
— Предлагаю жениться и немедленно развестись. — Он издевался, его глаза были прищурены, но и сквозь щелки век они смотрели на Милюкаса с такой издевкой, что он по сей день не может забыть об этом. — А в промежутке между свадьбой и разводом предлагаю почитать древнюю индийскую поэзию. Там сказано: возьми невесомость лепестка розы, завораживающий взгляд сирени, чистоту солнечного луча, слезинку росы, непостоянство весеннего ветерка, сверкание надутого павлина, изысканность полета ласточки, добавь к этому твердость алмаза, терпкую сладость меда, жестокость тигра, зной пламени… Все хорошенько перемешай — и получишь женщину. Это тебе на будущее, а теперь напиши объяснительную. Все!
Костас тогда мог съездить к Моцкусу и все выяснить, но амбиция не позволила: как это помчишься к своему бывшему подчиненному? «Жена его большим человеком сделала, пусть сама и справляется с ним», — вот какое мудрое решение созрело тогда в его голове. А оказалось, что Моцкус просто чертовски талантлив. Дай бог каждому благодаря своему таланту и поту столь высоко подняться. А все остальное — болтовня, злые языки поработали. Поэтому смотри, Костукас, чтобы тебе еще раз не пришлось проглотить коктейль, замешенный на древнеиндийской поэзии. Хватит одной ошибки.
Приложив руку к фуражке, он простился со Стасисом и вернулся домой. Потом заехал в больницу, осмотрел одежду, обувь Саулюса и очень пожалел, что не застал Моцкуса.
«А может, и хорошо? На сей раз мне и впрямь некуда торопиться: и звание моей должности соответствует, и до пенсии не так уж много осталось, и жена есть, а быть человеком — такую должность даже за величайшие заслуги никто не даст, о ней надо побеспокоиться самому».
Во время аварии Моцкус ни на миг не потерял самообладания. Выбравшись из опрокинувшейся машины, он тут же бросился к Саулюсу: приводил его в чувство, звал по имени, хлопал по щекам и, когда тот пришел в себя, постелил на траве свой плащ, уложил его, а сам принялся останавливать грузовики, которые, просигналив на полной скорости, проносились мимо — куда-то очень торопились. Тогда он притащил несколько сбитых рябин, забаррикадировал ими проезжую часть дороги и снова стал ждать. Наконец показался грузовик, подъехал и остановился.
— Я зерно везу! — раскричался шофер. — Разве не видишь, что я от колонны отстаю?
— Тем лучше, потому что у моего попутчика, кажется, поврежден позвоночник… А ты еще успеешь, намитингуешься.
— Я хлеб государству везу, мудрец!
— Зерно — почти как песок, удобнее будет транспортировать, — ничего не хотел знать Моцкус.
— Ты дурак какой-то или антисоветчик?! — рассердился шофер.
Наконец и у Моцкуса лопнуло терпение:
— Знаешь, парень, кончай и не прикрывай свою скотскую натуру ни государственными делами, ни политикой. Вылезай поживей из машины и помоги мне, если не хочешь, чтобы тебе на казенной тачке хлеб возили… Живо! — Когда требовалось, Моцкус становился человеком действия, и поэтому все, что мешало этому действию, для него переставало существовать. Чем труднее складывались обстоятельства, тем требовательнее становился он к себе, тем отчетливее и трезвее работал его мозг.
Увидев, что Саулюс в очень тяжелом состоянии, шофер застыдился. Он подогнал машину к канаве, въехал в нее задними колесами, чтобы не поднимать ноги раненого выше головы, потом осторожно тронулся с места. Моцкус ехал в кузове на закрытом брезентом зерне, смачивал лицо Саулюса водой из фляги и все время повторял про себя: «Он не должен умереть, черт бы меня побрал, не должен… Он должен жить, без всяких оговорок, без всякого сомнения, пусть мне трижды придется лечь в могилу…»
— Кто придумал так везти его? — осмотрев Саулюса, спросил хирург.
Водитель снова испугался и, покраснев, глянул на Моцкуса.
— Я, — ответил Викторас. — Другого транспорта на дороге не было.
— Мне кажется, вам повезло, — промычал доктор. — Это единственный способ без «скорой» привезти человека с таким ранением.
— Мы и воспользовались им, доктор, — серьезно проговорил Викторас и подумал, что сама судьба подбросила ему эту единственную возможность. — Уважаемый, — он радовался, что ничего не упустил, — в любом случае раненый должен выжить. Если надо будет, я всю республику подниму на ноги.
Доктор посмотрел на него, скептически улыбнулся, хотел что-то сказать, но сдержался и поблагодарил:
— Спасибо, мне кажется, в данном случае и мы достаточно компетентны, конечно, если после шока не будет осложнений.
Но Моцкус не вытерпел. Покончив со всякими формальностями и избавившись от опеки медиков, он тут же позвонил районному начальству, попросил машину и умчался в Вильнюс. Даже не заглянув домой, поехал в клинику, которой руководил хороший приятель, ввалился в его кабинет и уже с порога обрадовал:
— Алексас, тебе придется немедленно ехать со мной в одну районную больницу.
— Если придется, поедем, — ответил приятель, — но ты давно не приходил ко мне таким взъерошенным…
— Ведь я никогда не беспокоил тебя по пустякам.
— Знаю, поэтому и не расспрашиваю, расскажешь по дороге. А можно мне позвонить жене?
— Звони, я сам извинюсь перед твоей женушкой и все ей объясню.
— На этот раз тебе придется объясняться с моим внуком, — рассмеялся Алексас. — Я пообещал ему гостинец и не могу обмануть, ведь он у нас такой старик растет, что слов нет. Однажды приходит ко мне и говорит:
«Дедушка, я буду великаном».
«Но ты, Юргялис, еще совсем маленький, — возражаю я, — подрасти надо».
«Ну и что? — отвечает он. — Я буду самым маленьким великаном на свете».
Что ты на это скажешь? Ведь есть смысл в таком ответе! И по-моему, куда лучше быть самым маленьким великаном, чем самой большой мелюзгой.
Викторас не слышал, о чем говорит его старый университетский товарищ. Ему хотелось тут же до мельчайших подробностей разузнать возможные последствия беды, он думал только об одном: выздоровеет Саулюс или нет? Ему нужна была правда, какой бы горькой она ни была. Он был ученым, представителем точной науки, поэтому ненавидел пустые разговоры и сам старался не произносить затасканных апостольских фраз вроде: будем надеяться, не стоит терять надежду, бывает еще хуже…
— Что посеет в своей жизни человек, то и пожнет, — ворчал он, оставшись один. — Так должно было случиться, так обязательно должно было случиться, потому что в последнее время уж очень праздно я жил… — Он еще не успел подумать о том, что за совершенную аварию его могут наказать, а если шофер умрет, то порядком пострадает и его репутация. Моцкусу было отчаянно жаль Саулюса, кроме того, это был единственно близкий человек, связывающий его с молодостью и прошлым. Этот парень нужен был Моцкусу живой, потому что, если Саулюс погибнет, Викторас — он чувствовал это — уже не сможет быть самим собой. Его совести вполне хватало и того, что погиб отец Саулюса.
Он уже почти забыл то событие, точнее, похоронил вместе с его свидетелями, но неожиданно встретил в гараже юного Бутвиласа…
…В Пеледжяй их называли близнецами — Наполеонаса Бутвиласа и его, Виктораса Моцкуса. Впервые повстречавшись в волости, они остановились, удивленные, и даже руки друг другу не посмели протянуть. Первым опомнился Бутвилас.
— Наполеонас, — подал руку.
— Петр Первый, — ответил Моцкус, думая, что над ним просто насмехаются, и сильно встряхнул руку Бутвиласа.
Потом они оба от души посмеялись. Викторас снял форменную фуражку, надел ее на голову нового знакомого, отошел на несколько шагов, словно художник, оценивающий свою работу, и добавил:
— Обнимемся, или какого черта? — Они похлопали друг друга по спине, и Моцкус пошутил: — Ты хорошенько порасспрашивай, не заглядывал ли, случаем, твой отец к моей маме?