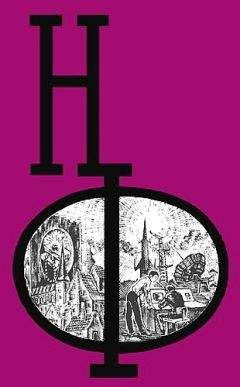– Ну, и поглядите, что вы сделали с этим пейзажем.
– А что?
– Слепые, что ли? Лес на той стороне видят, а под носом у себя не видят.
Зеленая, ровная, хоть и наклонная плоскость овражного склона действительно была в трех местах обезображена огромными буграми и ямами. Да и вокруг этих ям земля была ободрана и изрыта. Если бы на теле такие язвы, то была бы это какая-то страшная болезнь, и надо было бы немедленно лечить.
– Это-то? Это прошлогодние картофельные бурты. А левее – траншея, бульдозерами прорыли для силосования грубых кормов.
– Прошлогодние же бурты! Хотя и для них не следовало обдирать хорошо задернованную землю. Но допустим, что не продумали, ободрали. Выбрали картошку после зимы. Неужели не пришло никому в голову заровнять опять это место, загладить да и засеять сверх того травой. У вас же техника! Испортили место и бросили. А в этом году где-нибудь в новом месте эти бурты и траншеи заложите?
– Не думает об этом никто, – еще раз подтвердил отец.
– А это что за ссадина наискось по всему склону?
– Тракторы.
– Кто же разрешил им своими гусеницами разрезать овражный склон? Они ведь только раз и прошли тут, чтобы сократить дорогу на полкилометра. Война, что ли, у вас, что лишние полкилометра проехать некогда? А что получается? Нет, вы уж поглядите, поглядите, что получается.
Подошли к гусеничной колее. Современная техника позволяет пройти тяжелым машинам по любой почти местности, не разбирая дороги: овраг так овраг, лесная опушка так лесная опушка, цветочная поляна так цветочная поляна. Вот и здесь, по овражному склону, безжалостно прорезали чудовищную колею гусеничные тракторы. Подойдя к колее, увидели, что дождевая вода уже начала размывать ее, промывая глубокую и широкую красноглинистую рытвину.
– Тяжелое ранение земли. И леском там, на другой стороне, между прочим, не хвалитесь. В него же зайти нельзя. Как говорится, черт ногу сломит. Срубленные засохшие деревья, отпиленные верхушки деревьев, сучья, обрубки, пни – все там перепуталось, сохнет, гниет, разводит короедов и дровосеков, мешает расти подлеску. Удручающее впечатление! И все это ведь не в глухой тайге, а в двухстах километрах от Москвы, в километре от колхозной конторы.
– Ты очень уж напустился на нас. Народу в колхозе мало. На полях ничего не успеваем. Рабочие из города выручают, а тебе бы еще и красоту. С красотой погодить можно. Картошка для нас главное…
– Ну да, как один деятель говорил…
– Ладно, – оборвали его, – пойдем в избу, ты нам лучше сыграй на своей гармони. Гармонь у тебя замечательная.
Все-таки заметили, значит, гармонь. Но странно, играть Алексею Петровичу уже не хотелось. То он обижался, что не обратили внимания, а теперь, когда, оказалось, обратили, но не показали виду, сделалось почему-то еще обиднее. Обошлись словно с маленьким. Он им серьезную проблему ставит, а они – на гармошке поиграй!
Вопрос о заходе со стороны прокошинского прогона отпадал сам собой. Конечно, огромные, многолюдные и пестрые гулянья остались в далеком прошлом, это профессор понимал. Все же традиции долго еще жили. Люди забыли церковную сущность праздника – какое и чье преображение, но нужен был день в году, когда разъехавшиеся по ближайшим городам и поселкам преображенцы (и даже из Москвы, как профессор) съезжались в свое село – к родне не к родне – и всех можно было увидеть – с кем учились, с кем гуляли мальчишками. Это был как бы съезд землячества. С этим смыслом преображение существовало еще несколько лет; но и это его существование постепенно заглохло. Так что на этот раз в селе не оказалось не только гулянья, но и хотя бы одной группы девушек, которые прошли бы вдоль села в нарядных платьях.
Оставался клуб. В клубе, наверное, все-таки собирается молодежь. Сначала и туда не хотелось идти Алексею Петровичу, но, пока смотрели по телевизору матч между двумя «Динамо» – киевским и тбилисским, одновременно потягивая пиво, привезенное в багажнике из Москвы, настроение переменилось, и Алексей Петрович стал звать всех наведаться в клуб.
Все не пошли, отказался в том числе и Воронин-старший, но зять-бригадир и младший брат Алексея Петровича Шурка (впрочем, тоже уже к сорока) согласились.
– Прихвати гармонь, – попросил Алексей Петрович брата, хотя уже и понимал всю нелепость своего московского замысла – вдруг заиграть и всех удивить.
– На кой она?
– Может, сыграет кто-нибудь.
– Кому там играть? Они под музыку пляшут.
– Возьми, тяжело, что ли? Возьми, я тебя прошу.
Шурка нехотя перекинул гармонь через плечо, и охотники до клубного веселья отправились.
В селе Преображенском так называемый клуб находился в бывшем поповском доме. Последовательно в течение многих лет в нем размещались то сельсовет, то правление колхоза, то медпункт, а теперь вот – клуб. Старая планировка дома – одноэтажного, деревянного, но довольно-таки обширного по сельским масштабам – давно утратилась. Она менялась в зависимости от учреждения при помощи фанерных перегородок, оклеенных обоями, но постепенно приняла современный вид: небольшой коридорчик, где входят с улицы (густо засыпанный окурками), одно сараеобразное помещение и еще маленькая темная комната, где завклубом, приезжая девушка Люба, держала нехитрый клубный скарб: гитару без струн, домино, шахматную доску (без половины фигур), клей и краски для производства лозунгов, свернутые в трубку готовые болванки для стенгазеты «Колос», четыре десятка книг. Тут же, на отдельном столике, хранился и главный клубный предмет – радиола, здесь Люба ставила пластинки, динамик же, откуда вырываются звуки, был выставлен и нацелен прямо в зал.
В зале висели по всем стенам произведенные Любой лозунги со стрелами от цифры до цифры круто, чуть ли не перпендикулярно, вверх. Однако на всех диаграммах были обозначены только два года – текущий и будущий, а прошлых годов не было, так что нельзя было судить о крутизне стрелок в ближайшие прошлые годы.
В обычные дни клуб открывался только вечером, но теперь ради праздника он и днем был открыт.
В помещении клуба (все же сказался праздник) молодежи – битком. Когда наши трое вошли, менялась пластинка, и показалось странным, отчего все эти молодые люди сидят в тесном и душном клубе, а не выйдут на улицу, на вольный воздух. Но тут в уши ударила музыка, голос певца с нарочитой хрипотцой и как бы давясь почти до рвотной спазмы заорал из репродуктора, и вся молодежь пришла в движение.
Поездив по заграницам, Алексей Петрович видел несколько раз, что эти самые современные танцы можно, оказывается, танцевать красиво. Но и то, даже где-нибудь в мюнхенском дансинге, находилось лишь две-три пары из трясущейся массы, на которые хотелось смотреть и даже любоваться. Что же спрашивать с клубной публики в Преображенском? Алексей Петрович поглядел, как неуклюже дергается, вернее, пытается дергаться здоровенный парень с давно не чесанной шевелюрой, и ему сделалось не по себе.
Может, тут бы и развернуть свою гармонь. Но он обжегся уже один раз, когда в собственном доме за столом не уступили ему. Здесь же это было бы похоже не просто на шутку, но, пожалуй, на хулиганство – заглушить клубную, законную музыку. Добро, если, пересилив джаз, он показал бы настоящую игру на гармони. А то перебить-то перебьешь, а что потом? Вот если на улице, невдалеке от клуба, заиграть…
Около церковной ограды (где раньше и танцевало преображенское гулянье) он сел на лавочку. Зять-бригадир и брат, сославшись на какую-то необходимость, отпросились домой.
Не смешно ли, что какой-то человек, почти легендарный для этого села, да и начинающий к тому же седеть, сидит около церковной ограды и наигрывает на простой гармони? А! Кому какое дело! Сижу и играю. Алексей Петрович надел поглубже на плечо гармонный ремень, отстегнул пуговку на узком ремешке, сдерживающем мехи, и, утвердив левую басовую часть инструмента на коленке, правую повел змеей сначала немного вниз, а потом уж и кверху.
Тут вспомнился ему отрывок из стихотворения, услышанного на одном литературном вечере и запавшего в память. Речь шла о том, что на войне русская гармонь попала в руки баварцу. Наверное, осталась в блиндаже или просто в окопе. И вот баварец сидит и играет на «военнопленной» гармони.
Играл баварец ладно, худо ли,
Но не качал он головой,
Не поднимал ее он с удалью,
Не опускал ее с тоской.
Вспомнив стихотворение, Алексей Петрович поймал себя на том, что играет он именно опустив голову, не то с печалью, не то прислушиваясь к ладам. «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя…» – выговаривала гармонь почти словами все самозабвеннее и, в общем-то, горше. Но никто не вышел из клуба на ее зов.
Очнулся Алексей Петрович оттого, что на лавочку рядом с ним кто-то сел. Не переставая играть, гармонист повернул голову и увидел пожилую, очень уже пожилую женщину. Одета она была в выходное, как видно, платье, в синее, мелкими беленькими цветочками, а в сильно загорелых и разработанных (другого слова не подберешь) руках теребила странный для этих рук тонкий батистовый платочек. Глаза у нее синие, но словно бы на одну четверть, а то и больше, разбавлены прозрачной чистой водичкой. Волосы гладко зачесаны и на затылке собраны в узел при помощи черных шпилек.