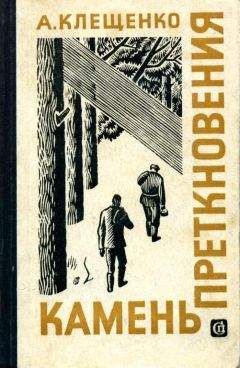Локтем он столкнул порожнюю бутылку из-под спирта. Глядя, как медленно откатывается она по цветастому половику, со вздохом облизнул обметанные белым губы.
— Может, еще за одной смотаться, а, дядя Матвей? — спросил его Петр. — Сплавать, что ли? Мы бы враз с Генкой. И на переметы бы заскочили, за свежей стерлядкой.
— Вывернетесь еще, упаси бог, пьяные-то! — запричитала Генкина мать, а Матвей Федорович сказал:
— Будя. Марья бражки подаст.
Неловкими пальцами пытаясь набить трубку, просыпая на стол махорку, стал невразумительно жаловаться сыну:
— Теперя не шибко выпьешь. Я, да ты, да Петро. Трое остались, и то потому, как на шивере опасное место. Теперя, брат, бакенщики на самоходке плавают. Бригада! От Каменки бригада, ниже сюда опять же бригада. Курсируют. Понял теперя?
Генка, повеселевший от спирта, отмахнулся беспечно:
— Понял, батя. Пускай курсируют. Наше какое дело?
— Не скажи, есть дело. Прежде надо нам переметы посмотреть или сохатиные ямы — мы с тобой и пошли. Потому еще окромя трое. Могут сами бакен поставить? Вполне могут. А двое уже не могут, ежели на шивере. Привязал Мыльников, сволочь. Без веревки к берегу привязал!
— Я в Костюхину избу перебрался, — сказал Петр. — Костюха-то из бакенщиков в гидрологию ушел, пост у них теперь в устье Ухоронги, приборы всякие. Один есть, «самописец» называется, уровень воды и температуру, что ли, отмечает. Только ленту бумажную менять надо. А в Гошкиной избе мы и печь разобрали — коптильню делали с твоим батей. В общем полный погром у нас. Половину постов совсем Мыльников разогнал.
— Хоть фонари зажигать не надо, сами загораются! — решил утешить его Генка. — Помнишь, как раньше? Вечером — зажги, утром — гаси. Попрыгали бы втроем!
— И без зажи́ги фонарей попрыгаешь. Подожди, «матки» скоро одна за другой пойдут. Самая сплотка сейчас.
— Плевать, Петро! Справимся!
— Справимся, — согласился тот. — Давай тяпнем еще по стакашку, раз Григорьевна долила туес?
— Ну ее, эту бражку! — сказал Генка. — С нее голова болит после. Пойду посмотрю лодки. Моторку-то одну Мыльников нам оставил?
— Нет, две. На случай, если у которой мотор, вдруг забарахлит.
— Тогда жить можно! — обрадовался Генка.
Петр, почти не захмелевший, ловко бросил в рот папиросу, придавил засверкавшим стальным зубом. Нашаривая в кармане спички, сказал:
— Жить всегда можно… — Стиснутая зубами папироса вынуждала чуть-чуть шепелявить. Прикурив, он вынул ее изо рта и закончил: — Если жить можешь. Ладно, мне надо дольни́к разбирать. Комом покидал вчера в лодку, леспромхозовских ребят в тумане за рыбнадзор принял.
Генка, любуясь, проводил взглядом широкую спину, почти заслонившую дверной проем. Ему нравилось слушать спокойную речь Петра, бывать с ним рядом, выполнять его приказания. Даже в звериной пластичности походки, в манере чуть закидывать голову старался подражать ему. Семь лет назад этот цыганистый, горбоносый парень навсегда покорил Генку Дьяконова.
Он впервые пришел в их дом — в этот самый дом, тогда еще не обжитой, совсем новый. В те времена Петр Шкурихин, их новый сосед и новый товарищ отца по работе, был еще холостым. Он попросил Генкину мать принять «на хлеба» его и двух лохматых собак да бельишко кое-какое простирывать пару раз в месяц.
— Договоримся?
— Договориться бы можно, — ответила мать, — да только сам не захочешь. Ведь на новом месте, милой! Ни огорода путнего — одну картошку посадить успели, ни скотины, чтобы на мясо прирезать. Только что одно молоко…
Петр весело заулыбался.
— Нашла о чем горевать! Мяса, мать, собаки в тайге сколько хошь найдут, рыба и вовсе под боком. Убить или поймать — наше дело, твое — наварить, да нажарить, да насолить. Ну и на стол подать.
— Добытчик-то у меня эвон какой, видал? Об одной ноге. Немного напромышляет.
— Без него, мать, управимся. Вот с парнем твоим… — Острым, только что выбритым до синевы подбородком Петр показал на Генку. — Разве не добытчик?
Генка вспыхнул, думая, что гость смеется, а мать махнула рукой.
— Годов через десять, может, и в дом принесет, а пока — все из дому. Малой он еще, Петенька! Тринадцатый пошел…
Петр, словно дивясь услышанному, с ног до головы оглядел Генку. Тот закусил губу, ожидая новой насмешки, но гость сказал без улыбки:
— Обижаешь сына, Григорьевна. Подожди маленько, обзнакомимся мы с ним — свое докажем.
И Петр Шкурихин, как равный с равным, заговорил с Генкой, что надо будет им заездок с осени поставить на Ухоронге, километрах в десяти от устья, а завтра-послезавтра подновить старую поскотину в болоте, пару петель повесить — сохатые там, что твои коровы, все кругом истоптали.
С памятного того вечера Генка хоть в огонь, хоть в воду пошел бы за Петром Шкурихиным, а потом понял, что и впрямь можно куда хочешь идти за ним. Везде проведет, отовсюду выведет!
Недели не прошло после знакомства, а они уже приплавили с грязей, что на притоке Ухоронги — Векшином ключе, бочку сохатины. Матерый бычище залетел в петлю. Честно говоря, Генкиных только и забот было, что вырубил да принес десяток жердей, когда налаживали городьбу. Но Петр, неохотно рассказывая о подробностях, говорил: «Мы со связчиком».
Рыбачили с поплавнем, добывали пастями глухарей. Что ни год, перегораживали заездками речку Ухоронгу, и, приезжая домой на каникулы, Генка с гордостью слушал Петровы отчеты:
— Ну, связчик, хариусов центнера четыре удалось взять, с центнер тайменя да ленка. Кабы шуга не поторопилась забить корыто, еще столь же бы взяли!
Благодаря Шкурихину Генка и впрямь стал добытчиком. Правда, когда Петр женился, зажил своим домом, в большинстве случаев стал обходиться без него. Но если приглашал в напарники, добытое делил честно, на две равные доли, никогда не спираясь на молодость и неопытность товарища. Наоборот, останавливал, когда тот накладывал не по силе ношу, показывая свое удальство, или хотел поступиться в пользу Петра лучшей частью добычи.
И мясо и рыбу добывали воровски, таясь от чужих глаз, но это, пожалуй, привлекало больше всего. Кто-то писал грозные законы, караулил на таежных тропах, старался неожиданно вынырнуть из тумана на быстроходной моторке или нагрянуть с обыском. А они с Петром смеялись над ними. Они были сильнее и проворнее, Генка Дьяконов и Петр Шкурихин. Плевали на все рыбнадзоры и охотинспекции!
Правда, в первые годы беспокоили их не часто: ловить красную рыбу вопреки запретам считалось привилегией бакенщиков. Мол, и не уследишь за ними, и то учесть надо, как людям кормиться, — заработок больно уж невелик, рыба на реке держит.
Когда стали поджимать, Петр изменил тактику. Научился ладить с инспекторами, с милицией — черт, он со всеми мог ладить! Как правило, работники рыбнадзора заезжали к нему ночевать. Тогда Шкурихин заводил моторку и уплывал в леспромхоз за спиртом. А утром, после отъезда гостей, кликал иной раз Генку:
— Помоги перемет разобрать. Рыбнадзоровские у кого-то наверху отобрали, совсем новый.
Знал, что уж Генка-то умеет держать язык за зубами.
В тумане, белом и плотном, как вата, незвонко провыла сирена. Увидеть что-либо немыслимо, но Петр Шкурихин, вывешивавший показатели глубины, спрыгнул чуть не с половины мачты и сказал уверенно:
— Пассажирский кричит, «Ласточка». Ей туман не туман — один черт. Нюхом, что ли, капитан фарватер угадывает?
Генка подвинулся, давая ему место на короткой скамеечке. Петр сел, вытащил мятую пачку «Байкала» и принялся чинить порванную папироску. Утро уступало дорогу дню, туман уже начинал рассеиваться, редеть. Из-под широкого листа подорожника, усыпанного мелкими бисеринками влаги, неохотно вылез толстобрюхий кузнечик, зябко потер над спиной лапки и, решившись, ускочил за куст жимолости. Там он попробовал застрекотать, но сразу умолк.
— Попытать за хариусом сходить на Ухоронгу? — Генка вопросительно покосился на Петра. — Как думаешь? Если на обманку худо еще берет, можно на кузнецов попробовать.
Петр помолчал, раскуривая папиросу. Только убедившись в качественности ремонта и сплюнув попавший-таки на язык табак, вспомнил, о чем спрашивали.
— Только и остается теперь — по речкам за хариусом. Стерлядка, брат, жжется нынче! — Он перехватил недоумевающий взгляд Генки и пояснил: — Рыбнадзор новый объявился, Кондратьев по фамилии. Водку не пьет — говорят, язва у него, что ли. Ну и вообще… с паршивым характером.
— Сволочь?
— Не поймешь. Сам вроде не против самоловов — говорит, не их, а по́плавни запрещать надо. Да это и верно, конечно, в поплавень стерлядка чуть не двухвершковая набивается, а на самолов такую редко поймаешь. Что поплавнями весь молодняк переводят, это так и есть. Но ведь он, гад, Кондратьев, и самоловы почем зря шерстит. Я, мол, не против, но закон предписывает. Закон!