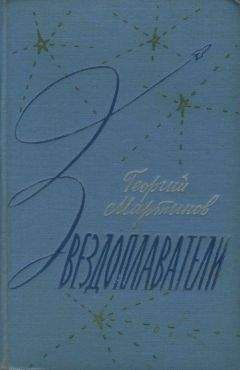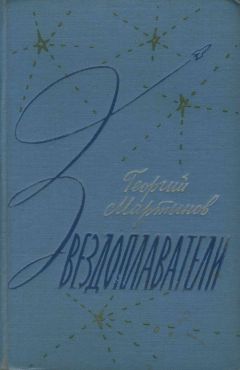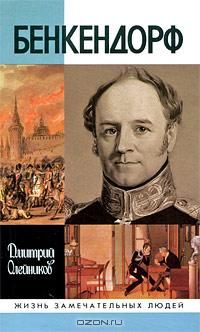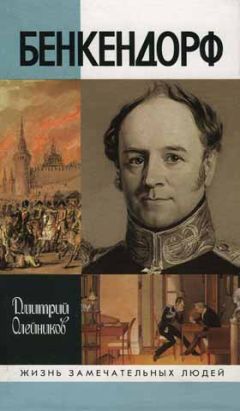Бабушка позвала бойца в дом, к столу. Он прошел, осторожно гремя сапогами, по комнатам, и сразу же запахло хлебом, полынью и лекарством.
Боец все извинялся, что крошит на пол, – ему трудно было есть одной рукой.
Маша резала и подавала все, что надо, бойцу, а бабушка возилась с самоваром, достала темный мед в сотах, и боец, когда увидел мед, даже вздохнул всей грудью – ну, и благодатный же мед!
Буйный стоял за порогом, смущенно смотрел то на бойца, то на крошки на полу, но не решался подобрать эти крошки, думал, должно быть, что это будет невежливо по отношению к бойцу.
После еды боец поблагодарил, снова вышел на крылечко, сел, закурил махорку. Синий дым поплыл над садом. Десятки паучков, что висели вниз головой на липе на своих паутинках, глотнув махорочного дыма, испуганно побежали вверх, сматывая паутину. Скворцы замолкли, смотрели на бойца то слева, то справа, потом начали смеяться, щелкать, пустили пулеметную очередь.
Боец заглянул в бочку, увидел шустрых булавочных зверей и лягушку, усмехнулся и сказал:
– Ишь животные – шмыг да шмыг! А бочка у вас хорошая. Я сам и бондарь и ложечник из-под города Горького, с реки Ней.
– А что такое ложечник? – спросила Маша.
Тогда боец вынул из-за сапога деревянную ложку, показал Маше. От ложки пахло щами.
– Вот такие я ложки делаю, – сказал боец. – Режу из липы. А вот раскрашивать не могу. Раскрашивает их моя сестренка-трещотка, по имени Даша.
Бабушка жаловалась бойцу, что вот сад весь зарос, но боец этим не огорчился, а, наоборот, успокоил бабушку, сказал:
– Сад у вас даже очень приятный. Покуда ваш сын вернется с фронта, он, сад этот, пущай отдохнет. Земля и дерево тоже отдыхом нуждаются, скоплением сил.
На солнце было сонно, тепло. Из ступеньки на крылечке выступила липучая смола. Боец начал покачиваться, дремать. Бабушка хотела уложить его в комнате, на диване, но боец ни за что не согласился и попросил положить его, если возможно, на чердаке.
– Люблю спать на чердаках, – сказал он. – Иззябнешься, умаешься, а там сухо, от солнышка под крышей все нагрето, – в слуховое окошко ветер залетает. Благодать!
Маша провела бойца на чердак. Там было свалено сухое сено. Боец постелил на него шинель, лег. Тотчас из-за печной трубы вылетели тонкие осы и начали кружиться над бойцом. Маша испугалась.
– Они вам спать не дадут, – сказала она. – Ужалят.
– Меня оса не тронет, – ответил боец, – потому что по случаю ранения от меня лекарственный запах. А чтобы скорее уснуть, у меня есть свой способ.
– Какой? – спросила Маша.
– Листья буду считать, – ответил боец. – Вон на той липе за слуховым окном. Насчитаю до ста и усну.
Маша попрощалась с бойцом и начала осторожно спускаться по скрипучей лестнице с чердака. В разбитое слуховое окно сладко тянуло отцветающей липой.
Когда Маша остановилась внизу у лестницы, на чердаке уже слышался тихий храп, и осы успокоились, улетели за свою печную трубу.
Маша вышла в сад, посмотрела на липу и засмеялась – разве можно сосчитать все ее листья! Ведь их тысячи тысяч, их так много, что даже солнце не может пробиться через их гущину. Смешной этот боец!
1945
Роса была холодная, обильная – настоящая сентябрьская роса. Она брызгала в лицо с высокой травы, капала с деревьев в реку, и по темной воде расплывались медленные круги.
Я промок насквозь от этой росы и развел костер. Дым подымался к вершинам лиственниц и елей. Лиственницы уже облетели. Их хвоя – тонкая, как короткие золотые волосы, все время сыпалась сверху, хотя ветра и не было. На лиственнице около костра трещала какая-то птица. Казалось, что эта птица – здешний лесной парикмахер, что она стрижет хвою, щелкает ножницами, сыплет эту хвою вниз, мне на голову, на реку, на костер.
Я сушился и смотрел на реку. Желтые листья плыли островами, цеплялись за коряги, останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев. Они запруживали реку, потом начинали медленно поворачиваться, вырываться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались и уплывали, то разгораясь, как золото, когда попадали на солнце, то погасая и чернея, когда на них падала тень от кустов.
На реке со времени боев с немцами остались брошенные переправы – плоты, заросшие кипреем и ольхой, и отдельные бревна, застрявшие на мели. Они пенили вокруг себя воду.
Кусты около костра затрещали. Из них высунулась мокрая коровья морда. Корова понюхала воздух, шумно вздохнула и кивнула мне белой головой с черным пятном на лбу. Тотчас где-то рядом щелкнул, как выстрел, кнут и кто-то крикнул:
– Куды, Параська! Куды залезла, чумовая?
Параська рванулась в сторону и, ломая кусты, исчезла. Из-за кустов вышел подпасок – обыкновенный подпасок, каких можно увидеть в каждой нашей деревне, – маленький, беловолосый, в большом картузе, в рваном ватнике и с длинным кнутом. Он тащил кнут за собой по мокрой траве.
Подпасок потянул носом, вытер его свисавшим до земли рукавом, поглядел на меня и сказал сиплым голосом:
– Почтение! Роса прямо заливает. Сил никаких нету.
– Иди, сушись! – предложил я.
– Это можно, – согласился подпасок, подошел и присел на корточки около костра. – Вы что же, путешественник?
– Пожалуй, что путешественник, – ответил я.
– А я пастух, – сказал мальчик. – Алексей Кудышкин. Работаю вместо отца. Он на фронте. Я, правда, ловчился попасть в конюхи, да председатель не взял. Говорит, что недомерок, ростом не вышел. Назначил Леньку. А какой Ленька конюх! Я его враз поборю, ежели всерьез схватиться. Высокий, а силы никакой нету. Потому что у человека вся сила в плечах, а у него плечи узкие, как у козла.
Мальчик помолчал, потом неожиданно спросил:
– Вы реку Миссисипи видели? В Америке.
– Нет, не видел. А что?
– Охота мне ее повидать. Говорят, широкая, поболе Волги. А в Сталинграде вы были?
– Бывал.
Мальчик улыбнулся:
– Папаня мой за Сталинград ранение и медаль получил. Он до войны был в нашем селе пастухом. – Откуда ты знаешь про Миссисипи? – спросил я.
– Из школы. И от папани. Он все знал, каждую былинку. Как ее зовут, где она растет и какая от нее польза или вред. Все объяснит. Про нашу страну и про другие страны. Правда это, что есть алмазные горы, только они глубоко в землю ушли и, чтобы до них дорыться, надо копать сто лет машинами?
– Не знаю, – ответил я. – Что-то не слыхал я про такие горы.
– А папаня – так он слыхал! – сказал мальчик. – Он не путешественник, а все знал про путешествия. А про бутылки вы знаете?
– Про какие бутылки?
– Про почтовые.
– Нет, не знаю.
– Я вам сейчас объясню, – сказал мальчик. – Плывет, значит, путешественник на корабле. По большому океану. Матросы, конечно, бунтуют. Им неохота плавать. У них дома пища сытная, печь всю зиму топится, своя корова и огород, а вечерком можно сходить к соседу, сыграть в поддавки. А тут одна жара и вода – и ничего больше нету. Вот они забунтовали, ссадили того путешественника в лодку и пустили его одного в океан. А сами повернули паруса и возвращаются обратно. А путешественника океан выбрасывает на необитаемый остров. Вы видели необитаемые острова?
– Нет, – ответил я.
– Да у нас на реке есть такие острова, – сказал мальчик; глаза его блестели и лицо раскраснелось от волнения. – На одном выдра живет. Так вот, выбрасывает его волна на необитаемый остров. Там только пальмы шумят да попугаи летают, каркают, и хорошо еще, если есть пресная вода. Вот он достает из лодки бутылку, пишет записку, что выбросило его на этот остров, закупоривает и кидает в океан. Ее несет течением, потом ее, конечно, подбирает команда с какого-нибудь парохода, дает радио, что вот требуется этому путешественнику немедленная выручка. И его спасают. А матросов судят потом адмиральским судом.
– За бунт?
– За бунт. И за бесчеловечность.
– Алешка! – закричал издали сердитый женский голос. – Куда ты подевался! Параська в капусту полезла.
– Здесь я! – закричал подпасок. – Сейчас выгоню.
Ом встал, запахнул ватник.
– Вот вредная какая! – сказал он. – С целым стадом столько не намаешься, как с одной Параськой. Ну, прощайте.
Он побежал в кусты. Издалека послышались щелканье кнута, крик: «Куды, дьявол!» и недовольное мычание коровы.
Я погасил костер и пошел вниз по реке. С каждым шагом она казалась загадочнее и живописней. То по крутым берегам серой стеной стояло осиновое мелколесье и на отдельных осинах висел желтый хмель, будто кто-то развесил сушить на солнце новые рогожи. То дуплистая ива лежала поперек реки, как мост, и около нее выскакивали из воды головли. То река уходила торжественным поворотом в леса, золотые и синие от осени.
У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глухими глубокими омутами. На краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне мореные дубы. В одном месте открылся косогор, красный от кленов, а в зарослях кленов – старенькая часовня с заржавленным куполом.