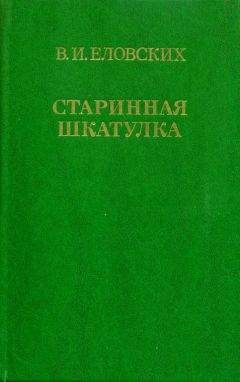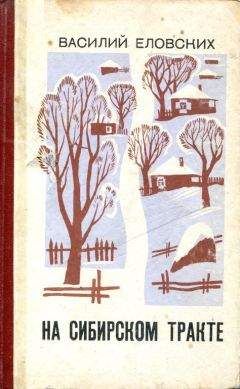Он чувствовал какую-то неосознанную тяжкую вину перед Верой Ивановной. И, видимо, будет чувствовать всегда. Конечно, он ни в чем, решительно ни в чем не виновен перед нею. И все же!.. Если бы он не поехал в Москву, не поехала бы с ним и она. В прежние времена Вера Ивановна часто жаловалась на сердце, а когда заболел Николай Степанович, уже не жаловалась — жалела его. Вспомнил: в Москве по пути в гостиницу она часто останавливалась и в ответ на его вопросы бормотала: «Ничего, ничего…» Да, она берегла его. И если б не он, она бы жила. Титов понимал: глупо так думать, но все равно чувство тяжкой вины не спадало.
…В платной поликлинике, что на старом Арбате, больных было — пушкой не прошибешь: видать, сидят часами, дожидаясь приема, — упрели, осовели; тесновато, душновато.
Женщина из регистратуры сказала явно сочувственно:
— Записать вас к профессору Прокофьевой я не могу. Да ну что вы!.. К ней такая очередь…
Ему, наивному провинциалу, все казалось куда как проще: пришел, записался, сколько-то подождал и, пожалуйста, — выкладывай, что у тебя.
Он просидел почти полдня. Люди — больше пожилые женщины — тихо, сухо переговаривались, а чаще всего сидели молча, угрюмые, даже со стороны видно — внутренне напряженные, углубленные в себя. Мысли приходили в голову Титову какие-то вялые, неяркие и все об одном и том же — о болезни. Вспомнился вчерашний день. Вчера он тоже молча и безучастно высидел часа два в одной из поликлиник и, уже измученный ожиданием, зашел к невропатологу, немолодому мужчине с сердитыми глазами и длинным носом. Титову сказали, что это не простой невропатолог, а кандидат наук.
Врач небрежно перебирал какие-то бумажки.
— Знаете, я не умею рассказывать, путаюсь, — начал Титов. — И поэтому я решил обо всем написать. О приступах и вообще… Как началась болезнь и как проходила. Прочтите, пожалуйста.
Николай Степанович положил на стол несколько листов бумаги с текстом, отпечатанным на машинке.
— Вы торопитесь? — сердито спросил доктор, оторвавшись от бумажек. — А я нет.
— Извините! Я н-не хотел… — стушевался Николай Степанович, слегка побледнев, и подумал: «Ведь я поторапливаюсь, чтобы не задерживать его. Хочет придать себе весу, показаться значительнее, чем он есть. Этак… на доктора наук потянуть».
Что-то слишком уж долго копается в своих бумажках, можно подумать, что сердит на Титова, не хочет разговаривать. Зачем тогда, спрашивается, пустил в кабинет?
— Это не болезнь. Органической патологии со стороны нервной системы у вас нету. А склероз… склероз есть и у меня. Да-а… ничего у вас нету.
— Но как же?.. У меня приступы. Я ведь написал тут. Я теперь даже ведро картошки унести не могу.
— Ну… тоже мне мужчина! Я вот выписываю вам…
«Лекарства. Все время лекарства…»
Многозначительно помолчав и неприятно настойчиво глядя пациенту в глаза, врач сказал:
— Не надо копаться в переживаниях. Не надо ничего бояться. Чего вы боитесь?
— Ничего не боюсь.
— Смерти боитесь?
— И смерти не боюсь.
— Ну, вот!.. Не надо думать о всякой чепухе. На кой вам это нужно?!
Он опять подтянул к себе какую-то бумажку.
«В самом деле, каким я стал слизняком, — размышлял Титов, шагая по московским улицам, вспоминая врача, который казался ему сейчас умным и проницательным, и почем зря ругал себя. — Не фронтовик, а мокрая курица. Тряпка! Тюфяк! Распустился, разнюнился, растяпа! Дурак! Тьфу! Почему, черт возьми, никто из врачей у нас в городе не сказал мне прямо и честно: возьми себя в руки?! Нет, хватит! Все!..»
Ему показалось, что с болезнью покончено. Он будет здоров. Он уже здоров! С этого часа, с этой минуты.
«Да, да!.. — догадливо закивал он сам себе, вызывая удивление прохожих. — Все, больше не болею! Баста, как сказал бы Щучкин».
Николай Степанович бодро повернул к метро, и тут его крепко качнуло, повело куда-то в сторону, влево. Женщина, идущая навстречу, шарахнулась от него, видимо приняв за пьяного.
«А это как, позволь, понимать? А?! Н-н-нет, браток!.. — едко усмехнулся он, прислонившись к дому и мысленно обращаясь к врачу. — Что-то у тебя не то… Не то, голубок!..»
Титов любил мысленно спорить с людьми — и спорил порою резко, со страшным азартом. Раньше — ничего, а теперь — начинаются головные боли, как будто и в самом деле полаялся с кем-то.
Скиснув, ссутулившись, стараясь ни о чем не думать (но разве можно ни о чем не думать!), Титов долго ехал в метро, потом на автобусе и сколько-то шел тихим, упрямым шагом, пока не увидел на окраине города тесную группу ровненьких белых домов — больницу. Он хотел встретиться с доктором из этой больницы. Отдохнуть бы, посидеть, но какая-то неведомая сила толкала и толкала его: «Иди!… Ищи!.. Действуй!..»
«Римма Всеволодовна. Римма Всеволодовна. Не забыть бы. Бывают же такие имена и отчества, черт возьми! Память стала, ну — никуда».
Рослая женщина с лицом простой деревенской бабы неподвижно сидела за столом, кажется, даже не моргала, будто приросла к креслу:
— Слушаю вас!
Николай Степанович объяснил, чего он хочет.
Сейчас врачиха глядела на Титова уже не равнодушно, а с недоумением.
— Я знаю… Я не имею права. Конечно… я не москвич. Но вас так хвалили (действительно, две старушки в поликлинике вовсю расхваливали Римму Всеволодовну)… Я очень прошу… Выслушайте, пожалуйста, меня. Мне говорили, что вы — отличный невропатолог. И ваша консультация…
— Да, хватит вам! Как не стыдно! Рассказывайте, что с вами.
Он густо покраснел.
Она молчит. Слушает и молчит. Читает его записи — молчит.
«Когда же ты говорить-то будешь?»
Титов не удержался и рассказал о враче с длинным носом.
Римма Всеволодовна вздрогнула:
— Как это не болезнь? Один невроз не вызывает таких явлений.
Смешно нахмурившись, долго рассматривала рентгеновские снимки. И опять молчала.
— Органики особой нет. Есть остеохондроз. Но он в данном случае не имеет значения.
Почему-то весело и изучающе посмотрела на него, — врачи иногда озадачивают больных.
К удивлению Титова, она посоветовала ему принимать те же лекарства, которые прописывали ему в его родном городе, и Николай Степанович подумал с разочарованием: «Однако!..» Но Римма Всеволодовна добавила:
— Каждый день заниматься гимнастикой. Следить, чтобы сон был нормальным… Спать с открытой форточкой…
«Ну, это уже что-то», — подумал он, слушая, как докторша с армейской краткостью дает ему наставления, и, выйдя из кабинета, неторопливо и подробно записал в тетрадь все, что она говорила. В этой тетради у него были записаны советы всех врачей.
Вчера вечером в гостинице Титов раскрыл еще одну тетрадь, толстую, в твердом переплете, — своеобразный дневник болезни — и записал обычным своим не очень разборчивым почерком (уж сам-то поймет небось): «Долго командовал себе: «Мне лучше. Мне лучше. Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя хорошо…» С упрямством и уверенностью командовал. Помогло. При сильных болях не помогает». Даты, даты, краткие записи. Множество записей, почти вся тетрадь исписана. Машинально пролистал некоторые из них: «Больше ходить. Быстро ходить». «Не думать ни о чем плохом. Не вспоминать плохое», «Включать приятную музыку. Смотреть открытки с видами природы», «Суть не в одном каком-то продукте питания, а в комплексе их. Хорошо помогает мед!…» Тут же выдержки из медицинских книг и журналов.
Вчерашним днем он, в общем-то, доволен — что-то все же сделал.
Титов снова вспомнил жену; она все время была как бы рядом; ночами даже вздрагивал: казалось, что Вера Ивановна зовет его. По привычке пошарил в карманах: все лекарства на месте.
Людей в коридоре оставалось все меньше и меньше, и, когда от Прокофьевой вышел последний больной, Титов открыл дверь кабинета. Открыл и удивился: перед ним стояла старуха, седенькая, морщинистая, в темном простеньком платьице. Совсем старая старуха.
«Прокофьева ли?…»
Но в кабинете, кроме старухи, никого не было. Внешностью она смахивала на соседку Титовых, лифтершу, которая умерла в конце прошлого года. Между прочим, от склероза мозга. Она не падала, как Титов, упала только однажды на улице, первый и последний раз.
Никогда бы не подумал Николай Степанович, что профессорша может выглядеть такой простушкой. Она собиралась уходить — поправляла на голове каракулевую шляпенку, старую, помятую.
— Извините меня, пожалуйста, Анна Герасимовна. Я не смог к вам записаться.
— Я закончила работу. Я не могу! — Голос со старческой хрипотцой, но еще сильный, внушительный, глаза неожиданно цепкие, не по-старушечьи яркие. Резко приподняла руку с согнутыми пальцами, как бы прося: уйди ты, исчезни, бога ради, надоели вы мне все хуже горькой редьки.
— Я из Сибири, Анна Герасимовна.