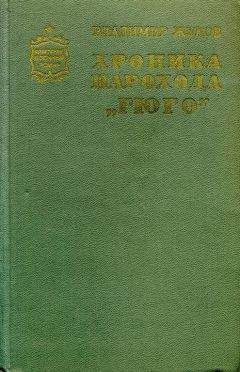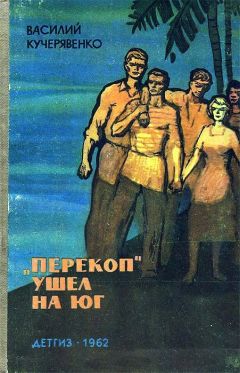— Конечно, так не отнесет, — громко сказал Щербина. — Течение даже прижимает. Но надо подтолкнуть, только подтолкнуть.
— Чем? — сердито спросил старпом.
— Да катером! Вон катер у лесопилки бревна гоняет. Пойти и попросить. Поворачивать они, конечно, деньги запросят. А толкнуть вряд ли откажутся. Левашов, а ну-ка, слетай: ты по-ихнему толковать можешь. Союзники же!
Левашов побежал — по причалу, за угол пакгауза и дальше, мимо железнодорожной ветки. Ноги вязли в песке, но он не сбавлял скорости: ему хотелось побыстрее выполнить, что приказали, и вернуться.
А приказал сам Реут. Долго молчал, потом тихо произнес, не назвав по фамилии: «Попробуйте». И интонация была такая, как у него всегда, — решительная и немного брезгливая.
Левашов удивился: впервые его совершенно не задело то, как сказал старпом. Важно было другое — что он помогает Щербине, что заодно с ним, и он летел и летел вперед.
Катерок с ярко-желтой надстройкой, с огромным кранцем на носу стоял недалеко от берега, приткнувшись к запани. Ни на палубе, ни в рубке никого не было видно, и Левашов стал кричать: «Эй, эй!», надеясь, что команда катера в кубрике или в машинном отделении.
Двое сплавщиков, ходивших по бревнам с длинными баграми в руках, молча уставились на пришельца. Наконец один неторопливо пошел в сторону катера, и бревна под ним тихо закачались. Стукнул багром по борту и что-то сказал. Тотчас в носовом люке показался человек в очках. Лицо у него было спокойное, доброе, но буксировать «Гюго» он категорически отказался.
Второй сплавщик, до сих пор не проронивший ни звука, медленно пошел но бревнам к катеру. Он тоже стукнул багром по борту, потом что-то тихо сказал очкастому. Тот огрызнулся, помолчал и крикнул Левашову, правильно ли он понимает, что надо лишь оттянуть пароход от причала. Вылез из люка, вошел в рубку.
Дизель взревел, и вода за кормой катера сердито забурлила, раскачивая бревна. Сплавщики резво отбежали в сторону. Очкастый опустил одно окно в рубке и, высунувшись из него, ходко погнал катер по широкой дуге, от запани к причалу.
Когда Левашов вернулся на «Гюго», трап уже поднимали. По борту, выходившему к реке, Рублев с Николой шумно протаскивали трос, на крыле мостика был виден Реут.
Мягко тарахтел дизель катера. Грузчики-американцы стояли кучками на причале и были похожи на провожающих, хотя пароход и не собирался никуда уходить — корма его не должна была отойти от причала и на метр. Как дверь, если на нее смотреть сверху: открыта, закрыта, а петли держат.
Катер тронул незаметно, и то, что перешвартовка началась, можно было определить только по медленно возраставшему — углом — расстоянию от носовой части «Гюго» до черных, осмоленных свай. Внизу, у их основания, подгоняемая отливом, с силой струилась глубокая вода Колумбии.
Перекинувшись через борт, Левашов радостно смотрел на стремнину. И, не зная, куда деть прихлынувший избыток сил, поспешил на корму — помогать, хотя ему, подвахтенному, можно было и оставаться не у дел.
В машине ничего не могли понять. То сверху гнали — давайте скорей готовность, а то вдруг позвонил третий помощник и сказал, что можно продолжать ремонт. Стармех приказал Огородову: «Поднимись и узнай, все они там с ума посходили или только Тягин?»
Электрик выглянул на палубу и застыл в удивлении: «Гюго» стоял под углом к берегу; поодаль на самом полном ходу мчался катер с канареечной надстройкой, словно боялся, что его задавят. На ящиках, которыми были забиты люки кормовых трюмов, столпились докеры; они смотрели за борт, о чем-то переговаривались и порой вскрикивали.
Огородов заметил Реута на мостике и по деловому виду старпома определил, что все происходит не только с его согласия, но и при непременном его участии.
А «Гюго» развернуло еще больше, скоро он должен был встать поперек реки. Огородов решил пойти побыстрей на корму и там все выяснить, потому что корма — странно — не очень торопилась менять свое положение, хотя нос парохода совсем уже торчал в сторону от этого городишка, Калэмы. Так, при коротком причале, было легко и на берег вылететь, следовало оттаскивать корму назад...
Пока электрик шел, «Гюго» совсем перегородил реку. Течение все быстрее несло его.
Швартовые концы с кормы отдали, американцы перетаскивали их на другие тумбы, а нос тем временем тащило течение. Корма, беспризорная, стала удаляться от причала.
Огородов уразумел, что случилось, и ужаснулся: пароход уже стоит не поперек реки, а боком, и тянет, тянет его немыслимая сила течения на самый стрежень, А машина мертвая, в ремонте, и, значит, хода нет, и руля судно плохо слушается...
И тут гудок. Довольно далекий еще, но такой протяжный, словно от испуга. «Bсe, — похолодел Огородов. — Не хватало, чтобы сверху по течению баржи тянули. Влепит буксир в борт, и считай тогда международные убытки».
Глянул на мостик. Реут стоял на прежнем месте и вдруг подался на другое крыло — даже его каменное сердце дрогнуло. Да только что он мог приказать с мостика?
Кормовая лебедка грохотала, шипела паром, с барабанов змеями вились стальные тросы. Плотник, согнувшись, сжимал рычаг и матерно ругался. Тут же суетился Рублев с красным, налитым кровью лицом и тоже ругался. Рядом Никола, высокий, нескладный, тянул и дергал концы, а Зарицкий торопливо разбирал бухту запасного швартового троса. И Андрей Щербина виделся подальше, у самого флагштока, там, где сплошной фальшборт переходит в тонкие прутья ограждения.
Вот это Огородова на секунду поразило: почему Андрей на корме? По швартовому расписанию ему на баке положено находиться, не здесь...
Огородов смотрел, а матросы работали. И американцы-докеры стояли рядом, тоже смотрели, и еще много их брата было на берегу, на причале. И как на судне, там тоже всего несколько человек были заняты делом — перетаскивали тросы на другие тумбы.
Потом Клинцов, второй штурман, объяснял, что из-за них-то все и началось, переносчиков швартовов. Их, оказывается, плотник с Рублевым матом и крыли.
Сказано ведь было ясно, Клинцов им все растолковал, американцам, — концы надо тащить по очереди: один снять, потом другой; вернее, по два конца, потому что Реут все рассчитал — чтобы по два троса на каждую тумбу заводили, иначе не выдержат — махина ведь пароход, да течение какое! И ведь на что умная нация, а тут швартовы перепутали, с тумб поснимали и только один тащат в самый дальний угол причала. А все другие зрители — видел Огородов — стоят, не шелохнутся. Не понимают, что ли? Впрочем, что им-то делать? Вдесятером за один трос хвататься? Троих хватит.
И вдруг тишина. Даже лебедка Плотникова замолкла. Ни слова. Слышно только, как у борта, под самым подзором, у руля, журчит река. «Гюго» тянет все дальше на стремнину, и трос, единственный трос, который связывает теперь его корму с берегом (надели его-таки американцы на тумбу), медленно выпрямляется, стряхивает узким дождиком капли воды.
Один-одинешенек при массе такой — десять тысяч тонн — и тянется в струнку. Тонкий с виду трос, ржавый и роняет капли в реку. И тишина, ни слова.
А дальше все сдвинулось, заспешило. Что-то полетело на берег, и, когда плюхнулось на причал, американцы, те, что там стояли, засуетились, потащили. Огородов понял: легость, выброска; значит, новый швартов на берег пойдет и, может, удержит, остановит трагедию. И по движению человека впереди на светлом фоне реки угадал, что это Андрей кинул, и увидел, как он метнул вторую выброску, и так же ловко, точно, и остальные американцы на причале в дело пошли, теперь уже там не оставалось, наймется, праздных — артельно тянули, скопом.
Спасительные концы уходили за борт. Зарицкий, Никола, Рублев, плотник, натыкаясь друг на друга, старались облегчить им путь на причал, а тот, ржавый, одиночка, все дрожал натянутой струной и будто раздумывал — выдержать ему или лопнуть.
Но десять тысяч тонн — десять тысяч. Река неумолимо тащила «Гюго» на стремнину.
И тут Огородов понял: надо ведь еще новые концы успеть закрепить на кнехтах, остановить судно и только потом подтягивать к причалу лебедкой, если, конечно, она пересилит, лебедка, течение. И на всё секунды, мгновения. Вот ведь сколько за секунды бывает!
Тот, ржавый, трос лопнул наконец.
Но раньше, до этого, мгновения, в суматоху, в почти отчаяние, с каким подавали на берег новые швартовы, ворвался крик:
— Тикайте! Тикайте, говорю!..
Щербина крикнул. Свирепо, дико, так, что его нельзя было не послушаться.
И все отскочили к лебедке. Никола даже сбил с ног американца, который стоял рядом с электриком. А вот потом-то и лопнул трос.
Хлесткий, похоже, как удар бича, звук резанул воздух, и все инстинктивно пригнулись, словно защищаясь от чего-то невидимого и опасного. Потом еще удар, какой-то толчок по корпусу судна, вроде оно наткнулось на мель или подводный камень. И движение всех стоявших — неясное движение, как бывает в толпе, когда стоишь и не знаешь, что именно произошло, но тебе все равно передается, что произошло, случилось.