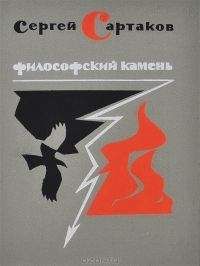— Ты оплевал память моего отца! — Виктор вскочил на ноги и ухватился за подкосину. — Мне трудно с тобой разговаривать!
— Мы сохранили добрую память об Андрее Петровиче Рещикове, положив на его до той поры безымянную могилу гранитную плиту с уважительной надписью, — спокойно сказал Тимофей. — Мы тщательно просмотрели и сдали в архив все сохранившиеся его рукописи, и Алексей Платонович Васенин написал к первой папке с этими рукописями в расчете на будущих читателей письмо, в котором тоже очень уважительно рассказал о трагедии автора рукописей. Заявление Люды рассматривалось в высоких судебных инстанциях, и признано, что Андрей Петрович был профессиональным адвокатом и его офицерский чин в белой армии — фикция. Разве всем этим оплевана память твоего отца, Виктор? За неловкое выражение относительно ценности его рукописей прости. Но если ты намерен предать их содержание гласности, напечатать в каком-нибудь спиритическом журнальчике, вот тогда ты действительно оплюешь его память. И давай вправду закончим этот наш разговор. Расскажи о себе.
Виктор стоял, тяжело дыша и досадуя, зачем он вскочил. Этого «свояка», толстокожего таежного парня, а теперь неведомо за какие заслуги — полковника, все равно ничем не прошибешь. Он сейчас торжествует. Сидит, как ни в чем не бывало. А со стороны тупо смотрит Стекольникова — черт бы ее побрал! Жалеюще смотрит Ирина Ткаченко. Этого только недоставало!
И, чтобы как-то выпутаться из неловкого положения, Виктор превозмог себя. Деланно, в рамках приличия, потянулся, небрежно зевнул, похлопал ладонью по дюралевой, комарино зудящей обшивке самолета и расхохотался. Так, будто они с Тимофеем только что рассказывали друг другу мужские соленые анекдоты.
— О себе? — спросил Виктор, наклоняясь к Тимофею. Быстро опустился с ним рядом, с подчеркнутой шутливостью ткнул ему пальцем в грудь. — Ты веришь в сатану, Тимофей? Ну да, не удивляйся, в того самого — демона зла!
— Верю, — с полной серьезностью ответил Тимофей. И, чуть отогнув воротник шинели, провел ладонью по шраму на шее. — Его работа. Когтями своими хватал.
— Ну вот… — Виктор не придал особого значения жесту Тимофея, На то они и военные, чтобы ходить в рубцах от ран. Но для задуманного им изящного аллегорического перехода к рассказу о себе, о своем юношеском увлечении Батайлем, воззрениями демонистов, ответ Тимофея никак не годился. Серьезность, которая убийственней шутки. Он ожидал яростного, гневного отрицания. И Виктор продолжал вяло: — О себе? Как я попал в Чехословакию, ты уже знаешь. Сташек меня усыновил. Человек хороший. Он теперь пивовар. Не миллионер, но и не пролетарий. Таких людей у вас называют буржуями — сказал с вызовом. — Дом в Праге, дом в ее окрестностях, завод и несколько десятков рабочих. Женат я на дочери весьма известного генерала. Как видишь, служу в дипломатическом ведомстве.
— Уже отец семейства? Есть дети? — с интересом спросил Тимофей.
— Одна дочурка. Терезой звать, — сразу загоревшись, ответил Виктор. И вдруг что-то кольнуло его: ведь есть еще н сын от Анки Руберовой. Почему он об этом мальчике умолчал? Незаконный? Но ведь все же сын родной. Впрочем, какое до всего этого дело таежному парню. Однако надо спросить и его: — А у тебя?
— Так… — Тимофей улыбался, почесывая пальцем висок. — Выходит, Тимка Бурмакин стал нежданно-негаданно дядей, а Люда — теткой. Подумать, дядя, тетка, племянница! Вот рассказать Люде! А у меня… у нас… — Тимофей помолчал. — У нас… Ну, тебе по-свойски я могу сказать, затаив дыхание: тоже первого ждем. Потому так и тороплюсь домой. Мог бы и поездом, но в наркомате поняли: «Дуй скорее на аэродром, есть попутный самолет!» Словом, имей в виду, Виктор, и ты теперь без пяти минут дядя.
Машину начало побрасывать. Скрипел металл. Казалось, натягиваются подкосины, пол самолета куда-то уплывает из-под ног, а потом, с резким толчком, возвращается обратно. Моторы ревели не так равномерно, как поначалу, и Виктор почувствовал легкую дурноту.
От долгого и трудного разговора болела голова. Он морщился.
— С чего это нас так сильно стало болтать? — спросил, расстегивая ставший тесным воротник гагачьей куртки.
— Наверно, летим над Уралом, — сказал Тимофей. — Да я сейчас схожу, узнаю.
И скрылся за перегородкой, отделявшей их от кабины летчиков.
Виктор устало откинулся на спину, закрыл глаза.
— Вам плохо, Вацлав? — Возле него суетилась Ткаченко. — Хотите мятную лепешку? Помогает.
В руке она держала маленькую круглую коробочку. Виктор утвердительно кивнул головой. Ткаченко скребла ноготками по жести, стремясь открыть никак не поддающуюся тугую крышку.
— Позвольте я, пани Ирена, открою.
Это ему сразу же удалось. В нос ударил резкий освежающий запах мяты. Медленно стала от горла отступать дурнота. Виктор измученно попросил:
— Пожалуйста, пани Ирена! Подайте сами.
Ткаченко журчаще засмеялась: «Бедненький!»
И всунула ему таблетку в едва раздвинутые губы. Она сделала это профессионально быстро. Но Виктор все-таки успел поцеловать ей кончики пальцев. Мягкие, прохладные. Ткаченко резко отдернула руку и тут же ладошкой дружески шлепнула его по губам.
— Ох, эта Европа!
С прищуром посмотрела и перешла опять к Стекольниковой, которая лежала, уткнувшись лицом в мягкий тюк, и часто постукивала каблуками хромовых сапог о деревянные ящики, пытаясь согреть зябнущие ноги.
А Виктору сразу сделалось как-то необыкновенно легко и хорошо. От мятной лепешки, прогнавшей дурноту. От короткого прикосновения прохладных пальцев Ткаченко. От того, что он успел поцеловать эти быстрые пальчики, а шлепок ладошкой никак не означал пощечину. А главное, от того, с каким многозначительным прищуром посмотрела на него Ткаченко.
И только капельку портило настроение надрывное гудение моторов да воспоминание о затяжном безрезультатном споре с новоявленным родственником, и вообще обо всем разговоре, о встрече с ним.
Вернулся Тимофей. Он объявил, что Уральский хребет остается позади, болтанке конец и через несколько часов самолёт пойдет на посадку. С ночевкой.
— Где? — невольно спросил Виктор. — В каком городе?
— Это не имеет значения, — сказал Тимофей. — Во всяком случае, не в городе.
Виктор спохватился. Летят они на военной машине, и всякие расспросы о маршруте полета здесь неуместны. Как бы оправдываясь, он объяснил:
— Мне хотелось взглянуть на Омск. Не знаю, как назвать — родной, или не родной мне этот город.
Тимофей только пожал плечами.
Приземлились в глубоких сумерках. Повсюду горели огни. Где-то вдалеке бесконечной стеной чернел сосновый бор. С неба сыпалась мелкая изморозь, поблескивающая разноцветно в лучах прожекторов. Пыхтел трактор, волоча за собой широкий, тяжелый клин из толстых досок, выравнивая летное поле, забитое снегом еще больше, чем подмосковный аэродром. Механики с ручными фонарями возились у самолета, оглядывая, ощупывая каждую деталь.
Виктор стоял, блаженно разминаясь на свежем, не очень холодном воздухе, таящем в себе все ароматы лесной зимы. Никто их, кроме дежурных у посадочной полосы не встречал. Рейс как рейс. И хорошо. Без долгих разговоров скорее бы в постель! Поспать привольно! А в ушах глухота и все еще работают моторы.
Стекольникова что-то задержалась с летчиками. Тимофей ушел к огням, желтеющим в окнах приземистой постройки, выяснять, где будет отведено место для ночлега. Ткаченко, ожидая Стекольникову, неподалеку бродила по снежному полю, напевала себе под нос какую-то незнакомую Виктору песенку.
— Пани Ирена! — окликнул ее Виктор. — У вас чудесный, волшебный голос.
Ткаченко не отозвалась. Набредя на небольшую прогалинку, подернутую тонким льдом, она, по-ребячьи разбежавшись, старалась прокатиться, будто на коньках. При этом вскрикивала и смешно размахивала руками. А потом продолжала свою немного грустную, протяжную песенку.
— Пани Ирена, вы прелестно поёте! — Виктор пошел к ней, оглядываясь, не помешал бы кто. — И слова такие простые, волнующие, задушевные. Я должен буду потом их записать. Непременно. Минуточку, пани Ирена…
Она пробежала мимо него, шаркнула подметками по льду, едва сохранив равновесие. И опять запела, теперь уже чуточку громче:
Манил простор… Рябины куст.
И поцелуй, и свежесть уст…
Виктор понял это, как прямой призыв. Хотел поймать Ткаченко на бегу, но она ловко увернулась.
— Вы на коньках умеете кататься? Попробуйте!
Снова шаркнула подметками по гладкому ледку: Виктор скопировал ее прием, но неудачно, споткнулся и зарылся лицом в снег. Ткаченко, посмеиваясь, приподняла его за воротник: «Ох, эта Европа!»
И тут же, поскользнувшись, оказалась и сама на снегу рядом с Виктором. Он притянул ее к себе.