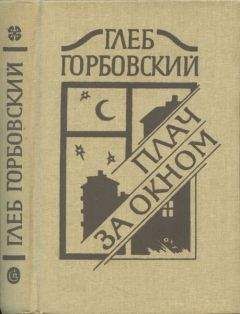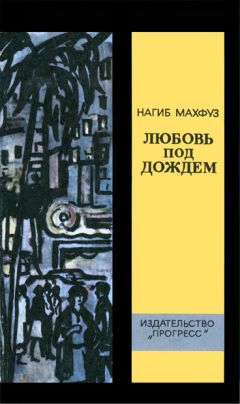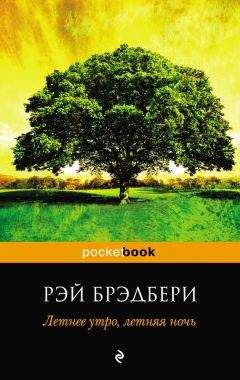Последние три лежаночных, млявых дня давались Парамоше особенно трудно. Но вот, наконец, сегодня, на исходе августа месяца, когда лес за окнами стоял уже помеченный желтизной, будто Парамошины волосы — сивостью ранней, решился Васенька на окончательный исход с печи, благо Олимпиада спозаранку метнулась по грибы, а значит, и наблюдать Парамошины перемены будет некому. А раз некому за тобой подглядывать, то и привыкать к переменам значительно проще.
Олимпиадина просьба закрыть ей глаза, когда «преставится», откровенно говоря, не понравилась Парамоше. Не то чтобы он брезгливым таким уродился, нет. Просто не любил он никаких просьб. Не терпел обязанностей. В увиливании от них прошла вся его не слишком сознательная жизнь. И все же похоронная просьба старушкина засела в мозгах, и Васенька начал как бы по-особому присматриваться к Олимпиаде, прикидывать что почем. Не найдя в поведении бабы Липы явных скоротечных примет «преставления», — временно успокоился.
Во много раз цепче, нежели соображения о старушечьей смерти, владели им соображения суетные, насущные — скажем, заботы по части отыскания в Подлиповке и других, подобных ей, новгородских угасших деревеньках отвергнутых жителями икон, реликтовых, в том числе рукописных, книг, медных распятий, складней и прочей имеющей статус ходового товара-«нетленки».
Сойдя с печи, Васенька прямиком направился в «больший» угол, туда, к божнице, где по вечерам, с первыми сумерками зажигала баба Липа малюсенький, с булавочную головку огонек лампады. Огонек этот, казалось, чудом державшийся на кончике фитиля, опущенного в лампаду — стеклянную рюмочку с пахучим репейным маслом, мерцал себе и мерцал, покуда за окнами не делалось совершенно темно, и тогда Олимпиада включала электрическую лампочку, к которой относилась не менее истово, нежели к лампаде, частенько протирала стеклянный пузырек от мушиных «веснушек» и, когда лампочка все-таки перегорала, — неизменно осеняла себя крестным знамением, испуганно причитая: «Свят, свят!» Зимой, когда, за отсутствием в Подлиповке полковника Смурыгина, прекращалась подача света, вздувала баба Липа огонь в керосиновой трехлинейной лампе. И так дожидалась лета.
Оглянувшись воровато на дверь, художник прислушался. На всякий случай. Тихо. Вокруг избы. Да и вокруг деревни — покой нерушимый. А главное — петуха не слышно и птиц, которые с появлением старухи во дворе делаются бесноватыми.
В помещении, несмотря на ничтожные размеры окон, достаточно светло. Хотя в самом интересном, «божественном», углу — полумрак, к которому нужно привыкнуть. На треугольной полке, утопленной в угол избы, на желтой, выцветшей газете, окаймлявшей полку резной, узорчатой бахромкой, стояли Олимпиадины иконы. В центре «Богородица» под стеклом, в окладе. По бокам от нее — не разобрать что: лики смутные, бесформенные. На «Богородице»— полотенце, пугающе белое, с красными петухами. Парамоша нашарил одну из смутных досок, снял с полки, шагнул с трофеем поближе к свету окна.
«Ясненько, — хмыкнул поднаторевший на перепродаже «старины» Васенька. — «Никола-угодничек Мирликийский». Начало нонешнего века. Доска еще деревом пахнет. Такой шедевр нам без надобности. За червонец бабку обижать», — Парамоша поставил икону на прежнее место. «Спас», выловленный Васенькой слева от «Богородицы», представлял собой еще более дешевую поделку: позеленевшая, под серебро, латунная риза скрывала под собой не сплошное письмо, а как бы его иллюзию: всего лишь полуосыпавшийся, мерклых тонов, ремесленного изготовления лик и правую ладошку с трехперстым, никонианским крестным знамением; короче: писано под оклад. И лик, и рука смотрели из-под ризы наружу в специально проделанные окошки. Если отодрать ризу, то впечатление такое, будто тебя обманули.
Но вот откуда-то из глубины полки, из-за спины «Богородицы», Парамошина рука нашарила еще одну икону. Точнее — иконку. Больно махонькая и совсем черная. С облезлым, местами как бы омертвевшим изображением.
«Та-ак, ну что ж… Дощечка почтенная: с ковчежком. Скол на грунте — как слоновая кость, яичный. И кто же это на ней притаился такой? Без поллитра не разберешь».
Парамоша расстегнул ворот рубахи, сунул под рубаху икону — из предосторожности. Направился к печке — искать, где у старухи постное масло? И вдруг вспомнил, что масло имеется в рюмочке перед «Богородицей». Сунул под фитиль палец: так и есть! Извлек дощечку из-под рубахи (кстати, рубаху ему Олимпиада постирала, заштопала, утюгом чугунным прихлопнула). Масляным пальцем стал Парамоша водить по изображению. Ловя в ладони свет из окна, пытался распознать, что на «картинке»? Краем марлевой занавески убрал масло со щербатой поверхности. Отчетливо проступили фигурки людей. Четыре человечка стояли порознь, держась независимо. Над головами людей, там, где у них прослеживались нимбы, — плыли церковнославянские буквы: Петр, Борис, Глеб и Павел.
«Странное сочетание, — насторожился Парамоша, — Петра с Павлом приходилось встречать. По отдельности и на пару. Бориса с Глебом — тоже. А чтобы вот так всех вместе? Два, можно сказать, иностранца и два кондовых русских князя, Борис и Глеб. Два братца убиенных. Борис и Глеб? Что они могут напоминать ему? Какую такую тревогу жизненную?»— Парамоша водил пальцем по дереву. И вдруг — вспомнил. Отнес на прежнее место иконку и вспомнил себя прежнего. Как все это началось и чем — кончилось…
Набережная Невы. Египетские сфинксы, смотрящие друг на друга, как два кота-соперника: величественно и вместе с тем безразлично. Вот-вот один из них не выдержит и, не разжимая каменных челюстей, издаст нутряной истошный вопль.
Над набережной много солнца. Воздух насыщен запахом большой весенней воды. Не речной — шире. Нева, вытекая из Ладоги, не успевает стать рекой. Море подпирает невскую воду прямо в черте города. В Соловьевском саду молодая листва как бы самостоятельно, без помощи неощутимого ветра, копошится, пошевеливаясь, на столетних деревьях.
Окончена школа, где Парамошу учили рисовать, вглядываться в мир глазами художника, отличать цвет от света, расстояние от перспективы, предмет от образа, действительность от иллюзии, искусство от его заменителей.
Учеба протекала трудно. Парамоша, хотя и числился в способных, а может, исключительно благодаря этому причинял преподавателям, всему руководству школы много хлопот. Вместо удовлетворения. И все из-за чего? Из-за своего, вряд ли до конца осознанного, тяготения в так называемую «левизну», в авангардизм, — призрачный, однако манящий.
Тяготение сие началось где-то между шестым и седьмым классами обучения, когда его, жадного до впечатлений и встреч с «подпольными», а правильнее — чердачными и подвальными гениями привел в мастерскую к Черемисову искушенный в поисках «левизны» одноклассник.
В те времена Черемисов слыл абстракционистом, даже ташистом. Работая над очередным полотном, он не пользовался традиционным инструментарием художника, как-то: кисти, палитра, подрамник. Традиционные масляные краски в тюбиках подменялись, скажем, смесями для покраски городских зданий, крыш, гудроном, паркетной мастикой, битумом, а то и бетоном, аэрозолями, парфюмерией, клеем, кузбасс-лаком, но чаще жидкими нитрокрасками, которые второпях можно было распылить из пульверизатора или спецбаллончика. Наносилась вся эта химическая какофония не на рутинный холст, а на современный пластик, древостружечную плиту, а то и прямо на входную дверь, унесенную маэстро Черемисовым из развалин дома, поставленного на капитальный ремонт.
Зато уж выглядел Черемисов — что надо! Не живописно, а именно художественно. Во всяком случае, Парамоше нравилось, как выглядел Черемисов. Заросшее звериное лицо. Мощное, атакующее, повергающее встречных в беспокойство. Глаза бессонные, все время воспалены и все время как бы излучают ужас восприятия мира, возникающий будто бы в сознании Черемисова от излишней впечатлительности, а на са-мом-то деле — от неприятия действительности, с которой он не то чтобы конфликтовал, наоборот — старался иметь как можно меньше общего. Одежда на Черемисове, хотя и фирменных тонов и материалов — вельвет, «джинса», хаки, — однако далеко не такая, как у людей, пошитая индивидуально, с претензией на протест: вельветовый, с накладными карманами френч фасона предвоенной эпохи, рубаха хэбэ защитного цвета, отдаленно напоминающая гимнастерку и одновременно — складчатую свободную хламиду, голубые джинсы.
Отдадим Черемисову должное: он не изрекал «потрясных» истин, не размахивал руками, короче — не «выступал». Он делал свое дело молча. И это молчаливое упорство изумляло юные дарования куда продуктивнее, нежели истеричная голосовая вибрация и наставнический бубнеж некоторых преподавателей художественной школы. Черемисов только по субботам, за глинтвейном, который варили в фаянсовой супнице и сведения о котором почерпнули из классической литературы, позволял себе краткие, как выдох, изречения — одно или два за вечер — наподобие: «Предметная живопись — кладбище восторгов», «Мыслить нужно не образами, а молитвами», «Фигуративное искусство — вчерашний день», «Где поработали итальянцы, там хохлам делать нечего».