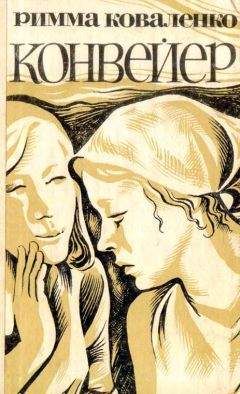— Ты не обижайся на меня, Яковлев, — сказал ему тогда в опустевшей каптерке старшина. — Я ведь хотел, чтобы тебе лучше было.
— А что значит — лучше? И откуда вам знать, что именно для меня лучшее?
— Для всех самое лучшее одно. — Старшина положил ладонь с растопыренными короткими пальцами на выпуклую грудь. — Чтоб здесь было спокойно.
— А у вас там спокойно? — спросил Женька.
— Было. Раньше было. Целых двадцать лет.
— А что случилось? Атомная бомба там у вас взорвалась?
— Ты, Яковлев, даже такое слово, как атомная бомба, попусту не произноси. Умным должен быть: службу прошел. А у меня беда случилась. Отец-то мой помер. Молодой еще был, шестьдесят два года…
Ничего себе молодой. Женька еле сдержал улыбку. Конечно, смерть страшная штука, но называть шестидесятилетнего молодым — это кто не хочет улыбнется.
— Я двадцать лет в армии, — сказал старшина, — вы приходите, уходите, а я остаюсь. Так раньше было, А теперь и мне уходить пора.
— А вы оставайтесь, — Женька пожал плечами, — кто вам мешает?
— Никто. Сам себе такой приказ дал. Придет пополнение, проведу с ним курс молодого бойца, примут они присягу, а я уеду. Рапорт уже написал.
Он полез в стол и вытащил сложенный пополам листок. Не поднимая на Женьку глаз, попросил:
— Прочитай насчет ошибок. Я, кроме ведомостей на обмундирование и ваше питание, давно ничего не писал.
Впору было разрыдаться. Въедливый и грозный старшина, терзавший Женьку, просил проверить ошибки.
Женька два раза прочитал рапорт. Ошибок не было, старшина писал короткими предложениями.
— Все в порядке, — сказал он Рудичу, — ставлю вам пятерку. Только, может быть, насчет пасеки не стоит? Несолидно как-то. «А также имеется пасека, которую больная мать содержать не в силах». Несерьезная причина, товарищ старшина. Какое дело командованию до вашей личной пасеки?
— А я для себя одного, что ли, мед качать буду? — удивился Рудич. — Может быть, и ты, Яковлев, мой мед поешь. И командир полка…
— И министр обороны, — не смог удержаться Женька.
Рудич скосил глаза на дверь и кивнул, что означало: министр обороны тоже. И тут же поднялся, с трудом загнал большие пальцы под ремень, расправил складки на гимнастерке.
— Значит, не собираешься в институт?
«Помнит, — удивился Женька, — почти два года прошло, а помнит».
— И куда ж ты?
— С ребятами, на стройку. В Чебоксары. Есть такой город в Чувашии, — ответил Женька.
— Есть, — сказал старшина. — А зачем они тебе, Чебоксары?
— Как зачем? Если идти все время прямо — школа, армия, институт, — так и жизни не увидишь. Пройдет она мимо.
— Значит, собрался вслед за жизнью бежать? А ведь не догонишь. — Старшина усмехнулся. — Ну, приедешь. И сразу вопрос: а зачем я в Чебоксарах, а не на БАМе, например? Еду-еду, следу нету. Про такое слыхал?
— Слыхал. — Женька разозлился. — Не каркайте, товарищ старшина. Не пропаду. Как все.
— У всех по-разному. Я вашего брата перевидал. Одни, как сороки, только и стрекочут: ошибусь — помогут, оступлюсь — поправят. А другие помогают и поправляют. Почему это: одни ошибаются, а другие и сами не ошибаются, да еще других поправляют?
— Примитивный вопрос, товарищ старшина.
— Примитивный, — согласился Рудич, — а не у всех ответ на него есть.
Старшина встал, пошел в угол каптерки, показал Женьке на его чемодан:
— Забирай свое имущество. Иди собирайся. И пусть у тебя в жизни все будет, как ты того хочешь…
«А чего я хочу? — спрашивал себя Женька, проводив взглядом Катю с коляской. — И какая она, моя единственная жизнь? Где она?»
— Мне так горько, — говорила мать, — что ты от меня сейчас дальше, чем тогда, когда действительно был далеко. Я всю жизнь хотела быть тебе другом, а потом уж матерью. Может быть, в этом была моя ошибка. Я слишком была современной. А любовь матерей и эгоизм детей — старинные чувства, их формировали тысячелетия.
— Что ты от меня хочешь?
— Это тоже извечный вопрос. Все матери хотят, чтобы их дети были хорошими, добрыми, умными, чтобы они были лучше их.
— Почему же ты не сделала меня таким?
— Если бы ты сам себя сейчас слышал! Я старалась. Видимо, тот человек, которого ты ненавидишь, помешал мне. Мне надо было посвятить тебе всю свою жизнь.
— Но ты не посвятила. А если бы посвятила, я бы, наверное, просто не выжил. Ты и так много лет жила моей жизнью.
— И ты в этом упрекаешь меня?
— Да. Ты учила со мной уроки, была всегда третьей в моей дружбе, ты даже в армии воспитывала во мне любовь к себе, писала письма командиру части. И в результате всего во мне произошло вот что: если моя жизнь принадлежит целиком тебе, то взамен подавай свою. А ты всю не отдавала. Вот поэтому я ненавидел твоего Никанора.
Она поднялась, подошла к зеркалу, расчесала густые каштановые волосы и сказала с досадой, как от чего-то освобождаясь:
— Пошел ты к черту. Мне надоел этот бесплодный разговор. У тебя действительно своя жизнь. Что будешь делать?
— Я поеду в Чебоксары. Там стройка. Строят завод промышленных тракторов. Мы с Аркашкой ждем вызова. Кстати, я бы хотел об этом поговорить с Никанором.
Она подошла к нему, он был выше ее на голову и смотрел на нее сверху вниз.
— Произошло одно непредвиденное обстоятельство: Никанор не хочет тебя видеть. Он не жил твоей жизнью, у него нет к тебе родительских чувств, и обида у него на тебя по этим причинам железная.
— Ты как будто даже рада?
— Нет. Сколько я буду жить, сердце мое самой большой болью будет болеть только по тебе. И прощать, и оправдывать тебя самой щедрой мерой буду на этом свете тоже только я.
— Ты так красиво и складно говоришь, даже обидно, что у меня с детства иммунитет к твоим словам.
— Никанор говорит: даже у самых великих педагогов собственная практика не всегда совпадала с теорией.
— Ну, если говорит Никанор…
— Алло! Зина?
— Да.
— Это я, Женька, здравствуй.
— Здравствуй.
— Ты слыхала, что я вернулся?
— Да.
— Слыхала? — Он растерялся. Зина знает, что он приехал, и не спешит увидеть его. Преодолевая обиду, сказал: — Давай встретимся. Где?
— А зачем?
Вот оно, это слово, которое может убить: «Зачем?»
— Как это «зачем»? Просто повидаться.
— Зачем нам видаться?
— Ну ладно. Один вопрос: у тебя кто-нибудь есть?
— Поняла. Нет.
— Ты меня еще любишь?
Зина положила трубку.
…Танцплощадка была в парке на Вороньей сопке. Парк только назывался парком; проложили в тайге дорожки, поставили с десяток гипсовых оленей да площадку для танцев заасфальтировали.
Сопка круто обрывалась над водой. Еще в первое свое увольнение в город Женька услышал от старослужащих солдат, что на этой сопке происходили когда-то поединки между моряками и пехотой. Одного пехотинца даже сбросили с сопки в океан.
Рассказчики свидетелями, не то что участниками этих стычек не были. Они это слышали от слышавших. Женька спросил у Рудича, когда же, в какие доисторические времена все это происходило.
— Легенда, — сказал старшина, — не было этого и быть не могло.
Конечно, легенда. Но все-таки на танцплощадке пехота и морской флот не сливались. Справа танцевали моряки в черных форменках, слева — пехотинцы в зеленых мундирах. И редко-редко, как в мраморе или граните, попадались чужецветные вкрапления.
Федя Мамонтов возвышался над всеми, и его знакомая сразу его увидела. Она не понравилась Женьке.
Маленькая, с соломенными кудряшками, юбка колоколом, ножки-спички. Рядовой, невыразительный экземпляр.
— Калерия, — представил ее друзьям Федя. — Можно просто Лера.
— Или просто Каля, — сказал Женька и тут же получил от Аркадия тычок под ребро.
— Нет, — сказал Мамонтов, — она Лера. Учится в педагогическом техникуме.
Наверное, у них в техникуме преподавали танцы. Вальс, чарльстон, шейк — все у Леры получалось легко и красиво. Тонкие ноги едва касались земли, и даже сквозь грохот солдатских сапог и матросских полуботинок пробивалось звонкое постукивание ее каблучков. Оказалось, что Федя танцует только танго и слегка вальс, а Головин вообще не танцует. Женька вспомнил: на школьных вечерах Аркадий подпирал стены. Он и здесь прислонился к сосне, руки в карманы, на лице высокомерие и скука.
Федя смотрел, как танцуют Женька и Лера, и улыбался. Он был доверчивым малым, этот Мамонтов. Женька вдруг захотел немного расшевелить его. Когда, танцуя с Лерой, поравнялся с тем местом, где стоял Мамонтов, взял и запел, поглядывая на Федю: «Остановите музыку, остановите музыку. Прошу вас я, прошу вас я. С другим танцует девушка моя-а-а!» Эту песню как раз играл оркестр, и вышло все складно и к месту. Федя растянул губы в улыбке, но тут до него что-то дошло, он так и застыл: рот до ушей, а в глазах вопрос и тревога. Женька это заметил, а Лера не заметила.