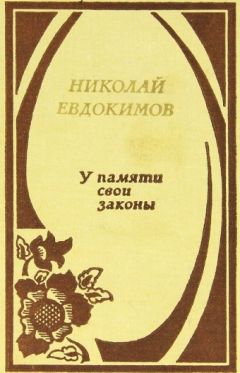— Вы не думайте, я еще утром купила билет... Через два часа поезд. Я не собиралась ни оставаться, ни денег просить. Я просто так приехала. Посмотреть на вас.
— Посмотрела?
— Да... А мама меня не посылала. Мама и не знает, что я сюда поехала. Мама вообще ничего не знает. А вы — «деньги»! На вас мне хотелось посмотреть — и больше ничего. Я ведь тоже не знала, что вы есть. Мама говорила: вы давно умерли.
— Умер? — Я усмехнулся.
— Да. Я случайно узнала, что это не так... И приехала... Глупо, конечно... Но не беспокойтесь, не буду надоедать... Даже мама не узнает, что я приезжала. Вообще, простите меня... Но, пожалуйста, скажите: вы любили маму?
— Любил не любил, какое это имеет значение!
— Я хочу знать! — сказала она.
— Мы были знакомы две недели, если не меньше. Всего две недели. Девятнадцать лет прошло — целая жизнь. Встретил бы сейчас — не узнал, наверно, да и она вряд ли узнала бы меня. Что я могу тебе сказать?
— Вы уже все сказали. — Она прикусила губу и отвернулась,
У вокзала я ее высадил.
— Прощайте, — сказала она.
— До свидания, — ответил я.
— Прощайте, — повторила она.
— Ты могла бы и остаться.
— Спасибо, прощайте.
Я устал. Я утер рукой вспотевшее лицо, вздохнул:
— Ну что ж, прощай... И все-таки, если что надо, напиши.
— Зачем? — Она взяла чемоданчик, побежала по лестнице, натыкаясь на людей.
Я смотрел ей вслед, ждал, что обернется. Но она не обернулась, скрылась в вокзальных дверях. Я постоял еще, закурил и сел в машину.
Девятнадцать лет прошло... Девятнадцать лет прошло... Девятнадцать. Целая жизнь. Жизнь...
...Ночью в море падают звезды. И шипят, как угли. Весь мир наполнен этим шипением. Звезды тонут в море, но не гаснут, они дотлевают на дне, и видно — море горит в глубине.
— Подожди, не оборачивайся, — говорит Зина.
Он слышит шуршание ее платья и слегка поворачивает голову. В полутьме он видит высокие ее ноги, белый живот и груди с горящими, как свечи, сосками. Она тоже светится, как море. Как береза в тумане.
Он встает с влажного песка и идет к ней.
— Не смей! — кричит она.
Сердце его переполнено добротой, любовью, счастьем, он слышит и не слышит ее крик. Он идет, потому что любит ее. Любит на всю жизнь.
Прикрываясь платьем, она отступает к морю.
Звезды падают в волны. И шипят, как угли. Море пахнет огнем. Все вокруг пахнет огнем.
— Не смей! — кричит она отчаянным голосом.
Так кричала Мирдза — радистка из третьей роты, когда пуля вонзилась ей в живот. Таким же голосом она кричала. Только другие слова. «Жить хочу!» — кричала Мирдза. И умерла.
Он остановился. Его будто холодом обдало. Его забило в ознобе. Страшное это ощущение холода он запомнил на всю жизнь.
...На всю жизнь. Девятнадцать лет прошло, а вот он вспомнил, как забило его тогда в ознобе. Она кричала как Мирдза. Сейчас ему тоже стало холодно. Да, она кричала как Мирдза.
Он никогда не вспоминал этого. Но она кричала как Мирдза, которой немецкая пуля вонзилась в живот...
— Не смей! — кричала Зина отчаянным голосом, словно кричала: «Жить хочу!»
Он сел на холодный, скользкий, как лед, песок, дрожа от озноба.
— Я люблю тебя. Люблю. На всю жизнь. Ты знаешь, что это такое — на всю жизнь?
— Знаю. На всю жизнь — это на всю долгую, долгую, короткую как день, жизнь...
Девятнадцать лет прошло... Девятнадцать лет. Целая жизнь...
Хватит, Поляков, хватит. Ты становишься сентиментален. Все правильно, все как должно быть.
Мне курить хотелось. Я остановился у табачного киоска, купил пачку «Казбека», а когда повернулся к машине, лицом к лицу столкнулся с Пашкой Цыганковым.
— Здравствуйте, — хмуро проговорил он и протянул продавцу деньги.
— Здорово, — сказал я.
Я ждал, пока он купит папиросы. Наконец он отошел от киоска.
— Зачем ты это сделал? — спросил я.
— Кому-то нужно же было это сделать, — ответил он.
— Но ты просчитался, — сказал я, — ты очень просчитался.
Он был мне противен. Его черные волосы, падающие на лоб, глаза его, белые зубы, голос, его спокойствие — все было противно, даже тот кусок тротуара, на котором он стоял.
Он опустил глаза, глотнул воздух и снова посмотрел на меня в упор.
— Жаль мне вас, Петр Семеныч.
Сказал и ушел.
Ему меня жаль. Пожалел! Не надо меня жалеть, Цыганков. Себя жалей. А меня не надо жалеть. Я солдат, а солдату меньше всего нужна жалость. У солдат долгая жизнь, а у таких же, как ты... У солдат одна цель — выиграть бой.
Кто это сказал? Не мои это слова. Это сказал отец Лены. Знал бы он, старый солдат, что происходит со мной... Он-то был настоящим воякой... Он многое знал...
Когда это было? Когда я узнал его? В сорок девятом было. Я работал тогда заместителем начальника цеха в Магнитогорске, а Лена кончала институт и у меня в цехе проходила преддипломную практику. Я и познакомился с нею там. Честно признаться, я не сразу обратил на нее внимание. В то время мне не до женщин было: из цеха не вылезал и забыл вроде бы, что он существует, прекрасный пол. Мне было тогда около тридцати, приятели уже посмеивались, называя меня старым холостяком. Практика у студентов была два месяца, и за эти два месяца я так и не разглядел Лену. Разглядел ее дня за три до отъезда. Шел по цеху, смотрю, сидят мои практиканты, орут какую-то шальную песню и на меня глядят нахальными глазами. Я разогнал их и, едва отошел— услышал:
— Наполеон Иванович!
— Полководец!
— Просто воображала!
А одна сказала тоненьким голоском:
— До чего же не люблю, девочки, начальство... Ужас!
Не знаю уж почему, но меня этот тоненький голосок разозлил. Не слова разозлили, а сам голос. Я обернулся и увидел ее. Худенькая, с дерзкими глазами, она стояла подбоченясь, смотрела на меня и ухмылялась. И я растерялся от ее ухмылки, и злость моя прошла.
— Вот начальство напишет тебе отрицательную характеристику, что делать будешь?
— Бороться, — сказала она, — за справедливость.
— Ну борись, — сказал я и ушел.
А к концу смены бросил все дела, побежал из цеха и будто бы случайно встретился с нею у проходной. Три дня до ее отъезда я не работал, я отлынивал от работы. И когда провожал ее, уже знал — женюсь. Она не знала еще, а я знал. Знал, что кончилось мое холостяцкое житье. И написал ей об этом.
Письма ее были трогательны и нежны. Я никогда не получал таких писем и ласковых таких слов никогда не слышал — откуда только она их выискивала? Я тоже старался писать ей ласково и нежно, но ничего у меня не получалось — мои цидульки были коротки и сухи, наверно, как производственный рапорт. Однако, как ни удивительно, они ей нравились, она даже удивлялась, что я не такой уж, оказывается, сухарь, что и во мне есть, оказывается, нечто человеческое.
Месяца через три я выбрался в Москву. Лена встретила меня в аэропорту с букетиком цветов, и я, увидев эти цветы, увидев ее матовое от волнения лицо, испугался, потому что не знал, как отвечать на такую любовь. Потом-то я привык и к цветам и к ее глазам, но тогда оробел: я любил ее, конечно, но так... так я не мог любить. Я для нее был целым миром, она же для меня только малой его частицей. Кто знает, может быть, потому-то и не очень сложилась наша жизнь, что Лена сразу выплеснула всю свою любовь.
Она встретила меня в аэропорту и сказала, что поведет домой знакомиться с родителями. Ну что ж, знакомиться так знакомиться.
Мы дошли до Охотного ряда, я устроился в гостинице — я в «Москве» всегда останавливался, — и мы отправились к Лене. Жила она на Пушкинской площади, напротив кинотеатра «Центральный».
До сих пор помню чувство, которое я испытал, когда открылась дверь и я увидел высокого круглолицего человека в генеральском мундире. Он был в полном параде, сиял золотом нашивок и орденов. Ордена звенели волшебным звоном. Он был величествен, он был, как памятник, монументален и огромен. Он был из другого мира, недосягаемого для меня, из того мира, который управляет такими, как я, который решает судьбы таких, как я. Я увидел его и почувствовал себя младшим лейтенантом, жалким, забрызганным фронтовой грязью, пропахшим потом младшим лейтенантиком, напуганным встречей с недосягаемым начальством, во власти которого или наказать тебя, или наградить.
— Ты уходишь, папа? — спросила Лена.
— Ну, — ответил он. И я подумал, что он, очевидно, из сибиряков: «ну» в Сибири означает «да».
— Все равно, обожди. Познакомься.
Он скользнул по мне взглядом, дал притронуться к руке и величественно ушел в глубину огромной квартиры.
— Ну его, — сказала Лена, — проходи. И не обращай внимания. Это он так, он любит выкидывать штучки-дрючки. Сейчас сам приползет.
Она провела меня в свою комнату, но генерал к нам не приполз. Он ушел. Я слышал, как закрылась за ним дверь. Он не хлопнул ею, он просто закрыл ее за собой нормальным образом, но мне показалось, что дверь грохнула, как залп артиллерийского дивизиона.