Меня может оправдать причина, хотя и укоряет стыд. Но за собой ничего плохого не чувствую, а несчастье ваше помогает не чувствовать и стыд. Атахан, брат для меня дороже жизни. Вы спасли его, и моя жизнь — ваша. Так я себе сказала несколько лет назад, в тот самый день и час, когда узнала о тех секундах, которые решили судьбу брата и едва не стоили вам жизни. С детства я мечтала встретить человека, похожего душой на брата Мурада. И, если разрешите, я приеду ухаживать за вами. Признаюсь, я приезжала, но вы были в беспамятстве, и Гюльчара меня не допустила, а Натальи Ильиничны не было. Гюльчара строго-настрого отказала в моей просьбе быть хоть санитаркой, хоть кем-нибудь в вашей больнице. Но мне один больной, его зовут дядей Федей, показал ваше окно. Я позволила себе заглянуть… Вы лежали спиной к окну. Я не восторженная девчонка и не впадаю в детство. Со всей серьезностью хочу быть рядом с вами, помочь, ответить благодарностью на сделанное вами для нашей семьи.
Я вкладываю в этот конверт другой, с обратным адресом, запечатанный.
Знаю, вам не то что слово написать, но и сказать его трудно. Поэтому, если разрешите мне быть около вас, пусть этот конверт опустят в почтовый ящик. Если же нет, ваше молчание будет ответом… Мурад — начальник той заставы, где вы служили с ним. Я была у него в гостях, он водил меня к тому ущелью, я видела на скале щербинки от тех пуль. Я жду, жду, Атахан.
Благодарная вам Лейла…»
Немалых усилий стоило прочитать на двух сторонах листа письмо.
Юлька сидела рядом на стуле и рассматривала ровные строки.
— Какой почерк красивый! А я букву «м» и «а» тоже могу писать, но, говорят, как курица лапой.
Атахан не слушал ее. Мысленно он поднимался с Мурадом на пост «Сибирь»; внизу пламенело лето. Они спешились. На крутых подъемах, держась за стремена, а то и за хвосты лошадей, взбирались сквозь осень навстречу зиме, вступали в заснеженные скалы, направлялись к пикету, где их поджидал любимец пограничников — ишачок Яшка. Лобастый, умный. На него около источника грузили два бидона с водой. Яшка без понукания, шаловливо помахивая длинными ушами, подходил к пикету, упирался лбом, постукивал правым копытцем в землю: «Прибыл, мол, разгружайте». Тогда-то, зачерпнув воды, пахнущей скалами, молодостью и таящей в себе что-то вечное, отпил глоток из алюминиевой кружки красавец Мурад и сказал:
— Эх, и сестра у меня растет! Золото!.. Я урод по сравнению с ней. Такому бы парню, как ты, Атахан, познакомиться с ней…
Но им пришлось знакомиться с новыми опасностями, со старыми скалами и головокружительными тропами… «Да, — снова вернулся мыслями к письму Лейлы, — Значит, из благодарности готова на все. Хорош и Мурад. Зачем разболтал о той схватке? Зачем? Так поступил я потому, что иначе не мог. Не для благодарности. А тут… вроде плата…»
«Я урод по сравнению с ней», — прямо над ухом повторил голос Мурада, и чеканное, точно с гравюры древнего мастера, вспомнилось лицо красавца Мурада, который хотел познакомить его со своей сестрой — красавицей Лейлой…
— Почему ты такой? — удивилась Юлька, держа письмо. — У тебя лицо красное стало, как морковка. Позвать маму? Нет?.. Смотри, в письме конверт. — И показала «вдвое сложенный запечатанный конверт с написанным адресом. — Что? — не поняла его жест Юлька. — Что? Отправить? Оставить? Открыть?.. Что? Разорвать?! — догадалась она, увидев, как он скрюченными пальцами обеих рук пытается что-то невидимое разделить или разорвать. — Разорвать?! Совсем? И это письмо? Это оставить. Поняла! — Девочка сложила вчетверо листок письма, поместила его в конверт, сунула под скатерть тумбочки. А запечатанный конверт порвала и с удивлением подняла, подобные крыльям крошечной ласточки, стремительные узкие брови. — А в конверте-то ничего и нет. Ты хитрый! — И высыпала клочки конверта в желтую с поломанными прутьями плетеную корзинку в углу комнаты.
Опять забытье. Как во сне, лицо, руки Наташи, уколы… Понимал — уколы. Боли не ощущал. Какое-то яркое видение: заря? всплеск огня? Бархатное красное платье? разрезанный гранат, влажно алый?.. цветы? Ну да, его любимые гладиолусы! Целый букет!.. В стеклянной вазе. И письмо… Слава аллаху, он может, кажется, распечатать конверт и прочитать.
«Гора с горой не сходятся, а пограничник с пограничником, как видишь, или, вернее, как ты не видел, сходятся. Короче, браток, это я тебя подобрал на дороге. Сперва увидел в свете фар пограничную фуражку. Ну, понятно, сразу — на тормоза. Гляжу, а ты уж одной ногой на том свете… Выпутывайся! Я был на одной заставе, где ты служил. Так хлопцы тебе привет посылают и просят передать: цветы, посаженные тобой, здорово прижились. Теперь без цветов никто себе заставу и не представляет. Чтобы ты поверил и скорее выздоравливал, передали со мной этот букет твоих любимых гладиолусов.
И еще ты, говорят, поддерживаешь с хлопцами связь. Но я тебе кое-что расскажу — свой пограничный телетайп. На днях на КПП досматриваю у шлагбаума автомашину. А шофер — из «сопредельной державы»… в промасленной фуфайке, в замызганной, пятнистой кепке — плоской восьмиклинке. Ну, я по-ихнему кумекаю малость, но вида не подаю. Он мне по-русски через пень-колоду внушает: мол, порядки наши знает, уважает, руки к сердцу прикладывает. А руки, между прочим, беспокойные. Ну, ладно. Открыл я кабину, оглядел сиденье — дырявое. Пощупал, крючком внутри проверил. Порядок. Без фокусов. Ничего недозволенного через границу не везет. Тут я за ручку кабины быстрей привычного — хвать, а он вздрогнул и — за кепку свою восьмиклинку. Поправил! Я нагнулся и под машину заглянул. И он нагнулся, и опять нервно восьмиклинку поправил. Попросил его снять кепку. Он в лице переменился, но снял. А оттуда симпатичная пачечка новехоньких советских денег — прыг и выпала!
Пишу, чтобы развлечь. Хотя, когда хлопцам на заставе рассказал об этом, они ухмыльнулись. Я-то не зная, сколько ты «артистов» вывел у КПП на чистую воду. Но думаю: все же интересно. Ну, бывай! Тут я тебе кое-чего с нашего пограничного огорода подкинул. Поправляйся. Привет от всех хлопцев!
Владимир Емков, младший сержант».
Дверь приотворилась, и с прижатой к груди тарелкой появилась сияющая Юлька. Она несла овощи.
— Это тебе прислали. Я все сама вымыла, мне мама доверяет и Гюльчара доверяет. Даже еще раз моет, после меня. Говорит, чтобы ей не обидно было: один раз я, а потом и она. — Девочка поставила на тумбочку тарелку с багряными помидорами, изумрудными огурцами и бордовой редиской.
«Смотри, еще при мне искали место под огород, — подумалось Атахану. — Спасибо…»
Юлька вышла и направилась в свою комнату.
Наташа подняла голову от учебника хирургии, по шагам узнав дочь. Юлька деловито подошла к полотенцу с вышитым фазаном и начала вытирать влажные ручонки таким же движением, как и он, ее отец, которого она не видела ни разу. И снова, снова с неотвязной ясностью Наташа почувствовала, что Георгий дорог ей, она скучает, тоскует о нем. Помнит его взгляд. Помнит его губы, очень горячие. Она провела по губам рукой, будто он прикоснулся, прижался к ним… Да, он увлек ее… Да, вышла за него. Да, он наделал долгов, а она выплачивает их не первый год. Да, бросил ее, когда она была в положении. Да! Да!! Да!!! Но что делать? Где он — неизвестно, но все время словно бы где-то рядом. Надо его презирать, а презрения — нет. Губы его слаще меда. Руки его… Прикосновение сильного тренированного тела… Юльке передал черты свои, повадки… Да, ее предупреждал Игорь, она четко услышала голос брата: «Натка, Натка, это — ворона в павлиньих перьях. Ему нужна не ты, а наша трехкомнатная квартира. Он рассчитывает безошибочно: отец — отчаянный, несмотря на седины, смельчак, свернет себе шею в полете, я, твой братец Игорь Иванов, стану военным летчиком и уеду из Москвы. Он же, прикидываясь романтиком, влюбленным в странствия и одержимый жаждой покорения пустыни, он никуда не поедет. Самый желанный его маршрут — в загс, потом в министерство — кем угодно пока, лишь бы зацепиться за Москву. А главное — наша трехкомнатная квартира. Эх, Натка, я же видел, как он смотрел на тебя на улице, когда я вас впервые встретил у дома, как по-деловому, взглядом оценщика, он окидывал тебя! И с каким вожделением он пожирал глазами наш просторный коридор. Как влюбленно воскликнул: «Настоящая передняя! Еще фактически целая комната»!» Его действительно красивые глаза блестели. Он увидел посадочное Т, выложенное ему тобой… Не перебивай, не перебивай (дослушай, дура!). Ты ходила и таяла, а я наблюдал за ним. Он просто без ума влюбился в нашу квартиру. И страсть росла пропорционально размерам открывающейся жилплощади. Мне кажется, в тот первый приход он все и решил. А когда спрашивал о здоровье мамы, — вот честное комсомольское! — так покивал головой, будто одобрял ее сердечную недостаточность. Он тогда, помнишь, проговорился, на миг проболтался: мол, пожили, пора и честь знать. И тут же проверил носком своего лакированного полуботинка паркет: не придется ли перестилать? Мне думается, Натка, он тебе и в любви-то признался после того, как увидел и оценил квартиру!»
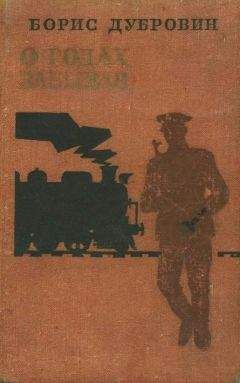

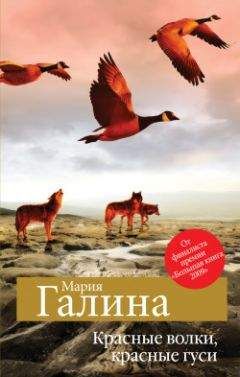
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

