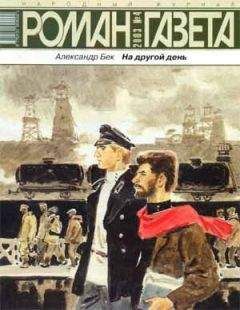Уже запоздно, что называется, под занавес Сталин спросил:
— А меня показать можешь?
— Пожалуйста!
И разошедшийся, слегка под хмельком гость талантливо в нескольких эпизодах сыграл Сталина. Придал физиономии грубоватость. Каким-то фокусом заставил глаза утратить блеск. Изобразил: Сталин, сунув руку за борт френча, диктует телеграмму: «Я, Сталин, приказываю дежурному немедля отправить по назначению. Москва. Ленину. Пусть Мануильский даст телеграфное распоряжение своим уполномоченным не захватывать наших продовольственных грузов и мануфактуры, не противодействовать приказам Сталина. Копию за номером мне, Сталину. Горячий привет. Сталин».
За столом вновь хохотали. И больше всех смеялся Сталин.
Распрощавшись, вернувшись к себе, Мануильский сладко уснул под убаюкивающее постукивание, покачивание вагона. Утром еще сквозь дрему он неясно ощутил странно долгую тишину и неподвижность. Оказалось, его вагон отцеплен, стоит в тупике на какой-то глухой станции.
С того времени Мануильский уже не рисковал шутить со Сталиным. Теперь поддался было соблазну, но, встретив взгляд Сталина, осекся.
И в мгновение перестроился. Восклицание, имитирующее голос Ильича, прозвучало так:
— А вы, това-а-ищ… э…э… Каменев? Изволили засаха-аинить наше госуда-а-ство? Сп-я-ятали в ка-а-ман бю-о-ок-аатизм? Благода-а-ю, п-е-евосходнейший пода-а-ок!
Давно замечено, что артист в сфере своего таланта предстает человеком более тонкого, более проникновенного ума, чем в повседневности. Это следует в какой-то мере отнести и к Мануильскому.
Коротенькое восклицание угодило, что называется, в точку. Интонация ленинской иронии столь уместна, что удается на минуту обморочить и достопочтенного «лорд-мэра». Не распознавший подвоха, Каменев благодушно возражает:
— На юбилее и про бюрократизм? Не бестактно ли?
Ленин раскатисто хохочет. Сдается, все тело участвует в этом приступе безудержного смеха, ноги пружинят, приподнимая и вновь опуская раскачивающийся туда и сюда корпус. Опять смеются и вокруг. Слышно, как Ленин, еще рокоча, выговаривает:
— Попались, батенька! — Уняв себя, он продолжает: — А по мне, долой такие юбилеи, на которых нельзя огреть коммунистических чинуш. И, посерьезнев, добавляет: Выдавать теперешнюю нашу республику за образец — это такая, гм, гм, снисходительность, из-за которой в один прекрасный день нас с вами повесят.
— Но вы же сами, Владимир Ильич, писали, что…
Ленин отмахивается:
— Доводилось, доводилось писать и глупости. Но такое лыко нам в строку не поставят, если не заважничаем.
…Выставив плечо, Ленин пробирается к Сталину и, взяв его за локоть, увлекает к свободному простенку. Они встали рядом, приблизительно равного роста, один — пятидесятилетний, в послужившем опрятном европейском костюме, не расставшийся во все годы российских потрясений даже с жилеткой, с запонками, с цепочкой в косых срезах воротничка, живо поворачивающий туда-сюда отсвечивающую крутизну лысины, другой — на девять лет моложе, в одежде фронтовика, на вид невозмутимый, с копной отброшенных назад черных толстых волос над узким лбом.
Из внутреннего пиджачного кармана Владимир Ильич достает сложенную вчетверо бумагу, которую час-полтора назад ему привез мотоциклист или, как тогда говорилось, самокатчик, развертывает и без слов подает Сталину. Бумага помечена грифом: «Полевой штаб Революционного Военного Совета Республики, Совершенно секретно». В сообщении говорится, что сегодня, 23 апреля, на Западном фронте вторая и третья галицийские бригады, ранее перешедшие к нам от Деникина, подняли восстание в районе Летичева, то есть на стыке 12-й и 14-й армий, и повернули оружие против советских войск. На этом участке фронта образовался опасный разрыв. Для подавления мятежа в район Летичева направлены резервы обеих наших армий.
Прочитав, Сталин поднимает голову. Ничто в его лице не изменилось. Не разглядишь душевных движений и в жесте, каким он возвращает бумагу Ильичу. Обоим отлично известны ходы и контрходы в попытках закончить миром войну с Польшей. Воинственный, верующий в свою историческую миссию, глава Польского государства Пилсудский, соглашаясь на переговоры, вместе с тем отклонил предложение установить перемирие на советско-польском фронте. Там как бы в предзнаменование близкого конца войны уже много недель не было боев, но… Но Ленин еще с февраля, когда обозначился разгром Деникина, требовал перебрасывать и перебрасывать войска на усиление Западного, словно бы тихого фронта. Как раз сегодня Первая Конная армия, прославившаяся в боях на юге, сосредоточенная под Ростовом, выступила в тысячекилометровый марш на запад. А теперь вот галицийские бригады, занимавшие изрядный отрезок фронта — можно угадать безмолвный комментарий Ленина: «Мы тут были не рукасты, ротозейничали», галицийские бригады восстали, далеко опередив прибытие наших новых крупных сил. Польские войска еще нс двинулись в брешь, как бы не реагировали. Однако не последует ли удар завтра-послезавтра?
— Увертюра? — вопросительно произносит Ленин.
Ответ короток:
— По-видимому.
Вот и вся беседа. Это поистине спетость, — от глагола «спеться», принадлежащего к излюбленным в словаре Ленина, — понимание друг друга буквально с одного слова.
Раздается настойчивый приглашающий трезвон. Достав карманные часы, Ленин кидает взгляд на циферблат. Уже и отсюда, из-за кулис, гурьбой тянутся в зал. Кауров бросает окурок в урну-пепельницу и пристраивается к покидающей кулисы череде. Вдруг он слышит:
— Того, здорово!
Никто, кроме Кобы, не называл так Каурова. Но Сталин когда-то, еще в дни русско-японской войны, наделил его такою кличкой и с удивительным упорством иначе не именовал. Да, сейчас неподалеку спокойно, как бы вне спешки, толкотни, стоит улыбающийся Сталин. Несколько лет — с памятного 1917-го им не доводилось этак вот увидеться, перекинуться словцом.
— Здравствуй, Коба.
Крепкое рукопожатие точно возрождает давнишнюю дружбу. Кауров, как ему случалось и прежде, делает некое усилие, чтобы выдержать тяжеловатый пристальный взгляд Сталина. И тоже смотрит ему прямо в глаза — узкие, миндалевидного, унаследованного с кавказской кровью сечения, цвет которых обозначить нелегко: иссера-карие, да еще с оттенком желтизны, то едва заметным, то иногда явственным.
— Какими судьбами ты здесь обретаешься? — спрашивает Сталин.
Кауров кратко сообщает про свои злоключения: ехал на съезд, заболел, врачи только теперь наконец выпустили.
— Валандаться, Коба, тут не собираюсь. Загляну туда-сюда, наберу литературы и, наверное, послезавтра в путь.
— К себе в поарм?
Произнеся «поарм» (здесь, возможно, нужна расшифровка: политический отдел армии), Сталин, не затрудняясь, назвал и номер армии. Каурову приятно это слышать: Коба знает, помнит, где работает его давний сотоварищ.
— Конечно. А куда же?
— В какой ты там пребываешь роли?
— Секретарь армейской парткомиссии.
Кто-то подходит к Сталину, обращается к нему. Тот неторопливо и вместе с тем живо отказывается:
— Минуту!
И продолжает разговор с Кауровым:
— Того, надо бы встретиться, потолковать без суеты.
— Буду рад.
Наклонившись, Сталин достает из широкого своего голенища блокнот или, верней, военную полевую книжку. Эта простецкая солдатская манера использовать раструб сапога вместо портфеля опять-таки нравится Каурову. Полистав книжку, помедлив, Сталин говорит:
— Завтра день субботний… Так… В три часа завтра ты свободен?
— Освобожусь.
— Приходи в Александровский сад. Найди там местечко около памятника одному нашему, — усмешка мелькает под черными усами Сталина, — нашему, как это записано, кажется, в «Азбуке коммунизма», прародителю.
— Какому?
— Который не прижился на российской почве. Во всяком случае, памятник не выдержал крепких морозов. Развалился на куски. Может быть, это прародителю и поделом: имел слабость, слишком любил говорить речи.
Казалось, Сталин шутит. Но и в этой тяжеловатой его шутке опять словно таится некий второй смысл.
— Робеспьер? — восклицает Кауров.
Коба кивком подтверждает угадку.
— Друг друга отыщем, — заключает он.
Сквозь переборку в почти опустевшие кулисы врывается громыхание аплодисментов, в зале увидели Ленина.
Коба подталкивает Каурова.
— Иди, иди.
А сам, нашарив в кармане карандаш, что-то помечает на раскрытой страничке, складывает книжку, сует за голенище. И остается за кулисами.
…Ленин уже вышел к трибуне.
— Должен поблагодарить вас за две вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей.