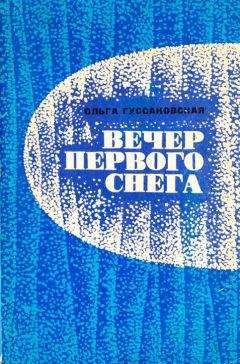— Никак и он сам жалует?
В коридорчике действительно послышались тяжелые мужские шаги. Заскрипели старые половицы. Дверь отворилась. Загородив собой весь пролет в дверях, стал человек с литым упрямым лицом. Особенно запоминались на нем густые и короткие — словно обрубленные — брови.
В руках он держал свернутый плащ, в котором шевелилось что-то живое. Прежде чем я сообразила, в чем дело, в комнату мимо ног проскочила небольшая рыжая собачонка и забегала вокруг стола. На лице Андрея Ивановича появилось мальчишеское просящее выражение:
— Бабушка Аграфена, ты только не бранись, ладно? Шел вон мимо магазина, а там собачонка эта… Ощенилась она, а мальчишки травят ее — не понимают ведь, что тоже живая тварь. Ну, я и взял их всех. Пусть живут.
Только теперь я заметила, что он под хмельком.
Бабушка Аграфена вздохнула:
— Господи! Да разве с тобой поспоришь? Неси уж в сарай, что мне с тобой делать! — Обернулась ко мне. — Вот, видела, дочка? В доме пять кошек живет — все он же вот так натаскал. А теперь еще и собака щенная. Медведя разве привести? Только и осталось… Спьяна-то он добрый — всякую тварь ему жаль.
Андрей Иванович улыбнулся.
— Ладно, бабушка, на людей-то наговаривать — кошек сама привела. И не пьяный я вовсе. Так спрыснули малость план, и все. Разве ж можно без этого? — Краем глаза покосился на меня: — Уж извините, я сейчас вернусь…
Старушка еще повздыхала, но уже легко:
— Ох, беда! Зверинец прямо, а не дом… Что гам кошки! Горностай ручной в кладовке живет. Вот так постучу в стенку — выбегает.
Андрей Иванович вернулся скоро.
— Бабушка, чаю хочется — страсть!
И по тому, как ласково протянули чашку старые руки, я поняла, как дорог ей, наверное, этот несуразный человек.
Он внимательно посмотрел, точно хотел узнать, какое впечатление произвела на меня вся эта сцена. В темных глазах медленно гасли смешинки.
— И надолго вы к нам?
— Еще не знаю…
— Оставайтесь подольше! Разве за два дня море узнаешь? А вам ведь о море писать. У нас здесь все:. И люди и дела — от него. Узнаешь море, тогда и людей поймешь..
— Вот вы мне его и покажите, ладно? Возьмете на ночной лов?
Андрей Иванович нахмурился. Дело известное: баба на сейнере — улову не быть. Здесь все так думают. Но вдруг улыбнулся.
— Укачает вас в доску.
— А вот и не укачает!
— Ну что же, быть по-вашему, возьму.
Бабушка Аграфена закивала головой:
— Посмотри, посмотри, милая, на наше море. Щедрое оно, сколь годов людей кормит. И красивое. Только вроде девки, с характером — не всякому свою красоту откроет.
Я заметила, что Андрей Иванович раза два украдкой поглядел на часы.
— Вы, может, торопитесь куда-то?
Он нахмурился.
— Нет. Это я так.
Еще через минуту, передавая ему стакан, бабушка Аграфе-,на дипломатично сказала:
— Я, чай, картина-то в клубе скоро начнется?
Он вдруг грохнул кулаком по столу.
— Ну и что — картина начнется? Наташка, что ли, ждет? Пусть ждет!
Бабушка Аграфена всполохнулась:
— Ты чего? Опомнись!
— Чего опамятоваться! Мне жена нужна, а не бабий командир. Тонька вот понимает… А этой неизвестно чего и надо. Что я, не прокормлю ее с девчонкой? Заладила свое: работа, работа…
Он встал, оглянулся. Видимо, снова вспомнил обо мне. Глухо сказал:
— Извините… — и побрел из комнаты.
Бабушка Аграфена стала убирать со стола. Обиженно гремели чашки, но она не сердилась. Даже больше — я видела, что она считает его правым. Ведь на море добытчик — мужчина. На том она и век свой прожила.
Я вышла на улицу. Внизу на косе у клуба орал все тот же испорченный репродуктор:
Куда бежишь, тропинка милая,
Куда зовешь, куда ведешь?
Кого ждала, кого любила,
Уж не воротишь, не вернешь…
Хорошая, душевная песня гибла от жестяного скрежета. Я подумала, что там, внизу, стоит, наверное, и ждет Наталья.
И песня царапает ей душу жестяными когтями, и некому выключить равнодушную тарелку.
За ужином Настенька вдруг пронзительно посмотрела на меня.
— Я слышала, вы с Андреем Ивановичем в море идете?
— Да… Договорились сегодня.
С Настенькой мы видимся только за столом. Весь день она в школе. Там начался летний ремонт, поэтому у нас даже в чае вместо сахара — мел, а на лице у Настеньки белые веснушки известковых брызг. От этого она выглядит еще моложе и уж вовсе несерьезно.
Сегодня меня целый день не было дома, а сейчас я сразу поняла, что у Настеньки есть ко мне какой-то важный разговор. По глазам увидела.
— Вас, может, будут просить Иринку с собой взять — вы не берите!
— Кто будет просить? Почему — не берите?
Настенька быстро-быстро затеребила уголок скатерти.
— Ну… Мать ее… Знаете, рыбаки не любят женщин в море брать… А девчонка давно просится. Одну бы ее не взяли, а с вами… Но вы не берите, ладно?
— Совсем не понимаю — почему?
Настенька укоризненно сморщила губы — неужели нельзя без вопросов?
— Потому что я с Тоней дружу — вот почему! Они с Андреем Ивановичем пожениться собирались, а тут… Эта приехала. Нарочно ведь, нарочно она девчонку с ним посылает!
Я вспомнила белую ночь, живые солнечные лучи цветущих рододендронов, вспомнила глаза Натальи.
— Настенька, вы несправедливы. Они же любят друг друга! И никто тут ни в чем не виноват.
— Не виноват?! А Тоня как же? Дурочка она, я бы на ее месте давно в партком пошла! Пусть знает…
— Не пошли бы и вы. И ей не стоит идти.
Настенька оставила в покое скатерть и с интересом посмотрела на меня. Злости — как не бывало.
— А почему?
— Потому что разбитую посуду как ни клей, все трещины будут. Какая же это семья, если людей палкой друг к другу гнать надо? Я, например, считаю, что таким путем много зла делается. Ведь по-настоящему обиженная и слабая женщина жаловаться никуда не пойдет. А часто ли люди могут отличить настоящее горе от поддельного? Настоящее горе невыразительно и порой со стороны даже смешно. Трудное это дело — помочь человеку в любви.
— Так, значит, вы считаете… я не права? И не должна защищать Тоню? — Лицо у Настеньки стало совсем детским: внимательным, готовым поверить.
— Здесь — нет. Какая же эта защита — поддерживать в человеке чувство оскорбленного самолюбия? А ведь в любви это всегда так. Любовь — чувство хрупкое, оно умирает сразу, как только уходит вера. Обида и ревность живут годами, но ведь это уже не любовь!
Настенька вздохнула легко, поднялась из-за стола.
— Странная вы какая… Другие так не говорили. Ладно. Берите с собой Иринку. Я больше ничего не скажу.
…Но меня никто не просил. На согретой солнцем улице было пусто. Взрослые работали, дети убежали к морю или на сопки. Слишком долго все ждали тепла и солнца. Я пошла вверх — к домику Натальи.
За несколько дней кусты вокруг него разрослись еще гуще, домик совсем спрятался за стеной ольховника и цветущей белой спиреи. А возле дорожки уже выстроились красноватые стрельчатые ростки кипрея — ждали лета.
Я подошла к двери, постучала. За дверью торопливо прошлепали босые ноги. Она отворилась. На пороге стояла Иринка. Но по ее глазам я сразу поняла — ждала она не меня.
Иринка нахмурилась и потянула дверь к себе.
— Мамы нету… После приходите.
— Да я не к маме твоей пришла, а к тебе.
— А зачем? — Иринка все не отпускала двери.
— В море хочу тебя взять с собою.
Дверь изумленно распахнулась во всю ширину, и так же широко распахнулись глаза девочки.
— Верно? А когда?
— Сегодня.
— Ой!
— Ну так что же, пригласишь меня хоть в дом-то войти или нет?
— Идите… — Иринка совсем засмущалась и не знала, что сказать.
Мы вместе вошли в маленькую очень чистую кухню. Здесь топилась плита и пахло дымом. На окне в консервных банках росли красная герань, столетник и неожиданные здесь нежные лиловые цветы дикого прострела.
— Это ты тут цветы развела?
— Нет… Это мама. Она их любит. Ей бы только по сопкам ходить. А я море люблю. Я капитаном буду. Ведь можно же девочкам капитанами, да?
— Можно, конечно…
Иринка с трудом передвинула на плите тяжелую кастрюлю.
— Помочь тебе?
— Не… Я сама.
За моей спиной отворилась дверь, пахнуло свежим запахом молодой лиственницы. Я обернулась.
На пороге, согнувшись под низкой притолокой, стоял Андрей Иванович. Он держал, ведра с водой. В медвежьих темных глазах его была досада. Смотрел не на меня, на Иринку. Она потянулась к нему глазами, всем телом, но не сдвинулась с места. Вдруг взяла меня за руку и потерлась о нее щекой. Но я чувствовала, что это не моя рука, а его, и все, что она делает, принадлежит не мне. Глаза Андрея Ивановича потеплели.
— Подружились, значит? А я думал…