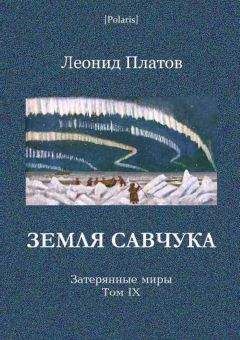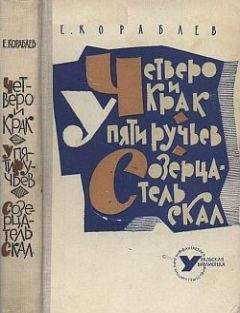В облаках воздуха, который выпыхивало из входных, огромных, как ворота, дверей, пробегают люди. Врываюсь в эти облака. Ноздри раздуваются навстречу душному, едкому потоку, он приятен и волнующ для меня.
Билетерши в форменном шевиоте, по краям лацканов басон. Полукольцо коридора с буфетными нишами. Пахнет чем-то зверино-конюшенным, опилками, сатураторным сиропом, пирожками, испеченными на подсолнечном масле.
Захватило человеческим потоком. Нарочито равнодушным взглядом скольжу по лицам, чтобы, если встречусь с глазами Жени, не выдать, что ищу именно ее и что только тем и обеспокоен — пришла она или не пришла.
Как интересно идти среди толпы! Кто этот старик с алюминиево-седыми под ушанкой висками? Не отгадаю, кем он работал: учителем, химиком, мастером домны, — но только вижу по тому, как он пристукивает кизиловую трость к линолеуму, что он был тверд в своей вере.
Кто эти парни в бочкообразных полупальто и мушкатых кепках, натянутых по брови? Кусают бруски мороженого, смотрят на прохожих, по-гусиному вытягивая шеи, перебрасываются жаргонными словечками. Вполне возможно — стиляги из студентов металлургического института или маменькины сыночки, не пристроенные никуда после окончания школы, а то и ученики технического училища, уже зашибающие деньгу на стане, где катают белую жесть.
Вокруг много девушек, улыбчивых, высокомерных, грустящих, зазывных… Одеты красиво, но редко заглядываюсь.
Мужчины в ботах «прощай молодость!», отдувая пену от кружечных берегов, пьют пиво.
Какая-то делегация шествует во главе с администратором цирка к двери директорской ложи. У администратора сановная осанка. Прежде чем распахнуть дверь, он открывает автоматический замок. В коридор ложи пропархивают девушки в синтетических шубках: серебристо-серой с темными полосами, клюквенно-красной, ядовито-синей, за ними ныряют парни в боярских шапках. В парнях узнаю недавних студентов металлургического института: передний — сын директора завода, средний — сын начальника мартеновского цеха, задний — сын главного прокатчика…
А вот и родной народ: деревенские. Мужики в суконных пальто, кожаных шапках с ушами нарастопыр, в чесанках, на которых зеркально-черные калоши. Женщины в пуховых шалях, плюшевых жакетах-коротышках и тоже в чесанках с калошами. Только у мужчин чесанки изрыжа-коричневые, а у них белые. У деревенских пыланье в щеках. Они рвут зубами копченую колбасу, глотают из бутылок лимонад.
Я задерживаюсь возле них.
Пахнет степным с привкусом полыни снегом, дубленой овчиной, рядном.
Близ циркового сквера стоит трактор с прицепом. Должно быть, на нем приехали деревенские. После представления завернутся в тулупы, лягут в солому, покатили. Толки про артистов. Хохот. А над ними прядают звезды по-зимнему иглисто и длинно.
Стоп! Женя вроде промелькнула. Фу, дьявольщина! Детинушки, отпустившие бороды под Фиделя Кастро, помешали разглядеть, она или не она.
Делаю в толпе зигзаги, крючки, вилюшки. Нет Жени. Обознался. Напролом иду обратно. Огорчен. Но и ожесточился так, как будто кто-то из толпы помог ей исчезнуть.
Скотина я все-таки. У нас в Сыртинке такое душевное состояние называют бзыком.
Заколотились молоточки электрических звонков, и публика хлынула через покатые проходы к барьеру манежа. Она как бы напарывалась на этот барьер: текла в разные стороны, поворачивала вспять и скакала по лестницам амфитеатра к голубому цирковому небосклону.
Я начал искать свое место, когда ряды амфитеатра сплошь заполнили зрители. Шел вялой поступью. В глазах меланхолический туманец, будто никто мне здесь не интересен, на все смотрю, как на пустынное, быстро осточертевающее марево и давно не верю, что кто-нибудь может быть счастлив в этом холодном, буревом, разноликом мире.
Я переживал совсем не то, что выказывал видом. Нет ее в цирке, нет! Другим везет, мне… А вдруг она уже сидит на месте?! Струшу. Смешаюсь. Ничего не смогу сказать. Как взять себя в руки и высказывать умные замечания о номерах, и чтоб это завязывало разговор? Разве сумею? Сердце и то не уйму. Скачет, как с перепоя. Погоди. Стулья четвертого ряда заняты, кроме одного. Вот Женя!.. Как подойду? Прямо робость одолевает. Как буду сидеть? Истуканом — неловко. Удеру лучше на верхотуру. Мест нет — на ступеньки, зато буду спокоен.
Бегу по лестнице. Не переводя дух. Останавливаюсь под краем купола. Потолок в пульсирующих каплях. Сажусь спиной в стену. Через мгновение вскакиваю. И — вниз. Только ступеньки свиристят. Пробиваюсь на место, задеваю колени сидящих, будто клавиши рояля. Женя не смотрит в мою сторону. Наблюдает за приготовлениями оркестра: то пиликнет скрипка, то квакнет тромбон, то пробормочет валторна, то по-казарочьи переливчато просвистит кларнет.
Шлепнулся на стул. Покосилась. Что, дескать, за тип прибыл? Что-то похожее на то, что она узнала меня, проблеснуло в ее зрачках.
Я начал тыкаться локтями в подлокотники, чтобы сесть поудобней и отдышаться, но Женя раздраженно, как мне показалось, убрала свой локоть, и я не стал облокачиваться.
Я запалился, покамест взлетал на верхотуру и спускался оттуда. Снял шапку и, когда сунулся в нагрудный карманчик за расческой, сообразил, что есть возможность прибегнуть к великолепной уловке. Вытаскивая расческу, я зацепил зубчиками и уронил автоматическую ручку. Словно не слыхал, как она стукнулась о половицу и покатилась, воткнул расческу в слежавшиеся волосы и потащил к макушке.
— У вас что-то упало.
— Ничего, по-моему.
— Упало.
— Впрочем… сердце упало.
— Неужели?
— Конечно.
— С чего бы?
— Военная тайна, Женя.
— Смотрите-ка, имя запомнили!
— Чернобровая девушка — всегда запомню.
Во время разговора она углядела авторучку возле своего стула. Сказала мне об этом. Продолжая притворяться, я похлопал по нагрудному карманчику и только тогда, тараща от удивления глаза, попросил Женю подняться и начал доставать авторучку. Я прихватил авторучку указательным и средним пальцами, она ускользнула, крутнувшись на ногте. Женя, наверно, решила, что этот растяпа не сумеет поднять ручку, и нырнула к полу. Туда же сунулся и я. Мы стукнулись лбами, заохали, улыбнулись и, морщась, терли ладонями «рога».
Фалдастый режиссер-инспектор (придумают же должность!) вел программу.
Жонглер ловко кидал в голубую сутемь пылающие палочки. Лошади бойко танцевали «Яблочко», наездницы рьяно шпыняли их шпорами. Приземистые тувинцы — волосы черная магма, одежды ярки, атласны — птицами порхали по стальной проволоке. Эксцентрик-прибалтиец, стоя на верху высокой лестницы и поддерживая равновесие, играл на аккордеоне.
Хотя артисты были превосходные, им не устраивали оваций. Женю сердила холодность публики, и она дольше всех хлопала. Я разделял ее возмущение. Настырно и горячо бил ладонями. Часто мы мужественно хлопали в полном одиночестве. Циркачи отвешивали нам признательные поклоны. Режиссер-инспектор с подозрением щурился.
В антракте я предложил Жене побродить. Она почему-то старалась идти позади меня. Я задерживал шаг. Едва мы начинали идти вровень, она ускользала за мою спину.
Я купил две палочки эскимо, покрытых по фольге сизым инеем.
Женя встала у стены. Отказалась взять мороженое. Засунул эскимо в карман: пусть тает. Она только досадливо вскинула плечи. Я пуще рассердился. Может, осторожничает, как девки у нас в деревне: «За здорово живешь парень не угостит, опосля чего-нибудь потребует».
Полы Жениного пальто были распахнуты, между ними темнел утренний свитер. Он гладко и так невыносимо прекрасно обозначал ее грудь, что я чуть не скользнул ладонями по теплой его черноте и, спасаясь, прижался спиной к стене. Со стороны мы, наверно, походили на влюбленных, между которыми произошла размолвка. Отделываясь от нежданного чувства — оно сладко было мне, но могло оскорбить Женю, — я услыхал чей-то ехидный вопрос:
— Не ждала, что явится суженый, ряженый, клятый, неунятый?
И ответ, предваренный вздохом.
— До смерти опостылел!
Он в упор смотрел на Женю. Шапка набекрень, антрацитовые глаза, руки в карманах, и колышутся полы шинели.
Под воздействием ее взгляда в его зрачках быстро ослабело мерцанье.
— Отойдем?
Покорный, умоляющий тон.
— Незачем.
— На минутку.
— Дни ничего не дали, месяцы…
— Отойдем, а то…
Как он менялся: ухарь, паинька, готовый упасть на колени, лишь бы настоять на своем, и — почти бандюга.
— …а то скандал устрою тебе и… пижону.
— Отойдем. — Это произношу я.
Стукаясь плечами, как бы пробуя друг друга на испуг, мы шагаем впротивоток человеческой реке, берем у билетерши контрамарки и оказываемся в вестибюле среди парных сквозняков и табачного чада.
Проталкиваемся среди курильщиков в свободный угол.