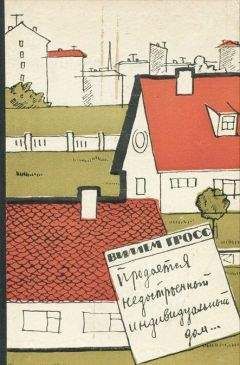— Ты прав, Рейн. Я страшная эгоистка. Я не могла иначе.
— Как будто мне нужно, чтобы ты поступала иначе.
— Ну вот видишь. Наша жизнь состояла бы из вечных ссор.
— Поглядим, что получится из вашей жизни.
Урве внимательно взглянула на мужа.
— Мы живем хорошо.
— Забирай свои деньги. И не вздумай больше совать нос туда, куда не следует. Я сам справлюсь с домом. Твою долю я выплачу тебе.
— Этого ты не сделаешь.
— Сделаю. Увидишь.
— Не смей. Я не хочу.
— Твоя доля — семь тысяч семьсот. Работала ты мало. С работой, скажем, — восемь тысяч. Эту сумму я тебе и выплачу.
— Я не возьму.
— Вот видишь, мы снова ссоримся. И из-за чего!
Рейн взял записку, приложенную к деньгам, поджег ее и прикурил от огня сигарету. Затем схватил со стола пачку «Примы» и протянул Урве.
— Извини, забыл.
Урве взяла сигарету и прикурила от синего пламени догорающей бумаги.
— Ты гордый парень, — сказала она с горькой усмешкой.
— Это все, что у меня осталось, — ответил Рейн. — Ах, да, когда ты думаешь подать на развод?
— Я еще не знаю, — оживилась Урве. Развод был для нее очень важен, гораздо важнее, чем она представляла себе вначале. Люди старшего поколения подчас очень строги к соблюдению формы и упорно отстаивают точку зрения, будто бумаги имеют особый вес. По тому, какой оборот принял разговор, можно было заключить, что Рейн больше не противится разводу.
Рейн что-то поискал в ящике своего стола. Но не вынул сразу. Держа руки в ящике, он глухо пробормотал:
— Я думаю, они никому из нас не нужны. — Рейн положил на стол небольшую пачку писем — часть в конвертах, часть — без. Иные пожелтели и порвались — солдат долго носил их в своем заплечном мешке. Больше, чем эти письма, ранила душу Урве тоненькая веревка, перевязывавшая этот пакет. Урве не знала, что муж так бережно хранит ее письма. Она не смогла сдержать нахлынувших слез.
— Что же делать с ними? Вернуть тебе?
Урве покачала головой, прижимая к плазам носовой платок. Сигарета в другой руке так и осталась не зажженной.
— Сжечь их?
— Не знаю... Конечно, если ты... Но твои письма я бы хранила.
— Для чего?
— Ты прав. — Урве вытерла глаза.
— Для чего?
— Мама, ну мы идем? — появился в дверях Ахто.
— Да, да, сейчас. — Урве смяла сигарету и поднялась. — Ты будешь иногда навещать его, правда?
Рейн резко отвернулся. Веки его задрожали.
— Уходи! — быстро сказал он, проглотив конец слова.
Так. Уж если зашло так далеко, надо пройти и через это. Урве поправила шарфик на шее сына, застегнула пуговицы на его пальто и велела ему попрощаться с отцом.
— Расти, маленький мужчина. Я не... не забуду тебя, — сказал отец, прижал к себе мальчишку и снова отвернулся.
Они пошли. Застучали шаги на каменной лестнице. Хлопнула дверца автомобиля и затарахтел мотор.
Словно сквозь туман увидел Рейн чернильные пятна на зеленом полинялом картоне — следы ночных писаний Урве. А рядом — черные обрывки обуглившейся бумаги. И деньги остались. Ничего, пригодятся старухе. В тяжелой хрустальной пепельнице — свадебном подарке Лийви — пепел и окурки; на одном из них красная полоска от губной помады. А в душе такая пустота, словно все из нее вынуто. Мускулы, привыкшие к тяжестям, не болели. Они слишком устали, чтобы что-то чувствовать.
— Может, ты голоден, я разогрею? — донесся вдруг голос из кухни.
В такую минуту есть! Разве этот человек в потертом пальто замечал в эти последние, лихорадочные дни, что и когда он ел. Сейчас, после последнего свидания, еда могла вызвать лишь тошноту.
— У меня тут немного мяса и кислой капусты.
— Я не хочу, ничего не хочу.
Мужчина поднялся. Осмотрел комнату, где стало теперь гораздо просторнее, но где ему совсем не хотелось оставаться.
На туалетном столике тикали часы. Те же самые. Но и они постарели и могли теперь отсчитывать время, только лежа на боку. Урве еще хотела разбить их. Время... Да, только время в состоянии залечить все раны...
Из зеркала на него глядело незнакомое лицо. Был ли он когда-нибудь счастлив в этом доме? Конечно, был. Но в жизни человека есть мгновения, когда он не помнит, да и не хочет помнить счастья прошлых лет.
«Продается недостроенный индивидуальный...»
Мужчина, пишущий текст объявления, смотрит на прикрепленный к стене плакат: двое счастливых людей стоят друг против друга, нежно держась за руки; у обоих серые книжечки; за мужчиной и женщиной зеленеют деревья и возвышается розовато-красная покатая крыша индивидуального дома. Плакат советует гражданам держать свои накопления в сберегательной кассе.
В конторе по приему объявлений тесно, а желающих подать объявления много. Мужчина, разглядывающий плакат, мешает остальным. Почему он заранее не продумал все как следует? Нашел место, где стоять и киснуть! И чего он там раздумывает? Но даже когда его взгляд снова устремляется на бланк объявления, перо в руках начинает писать не сразу. На худом загорелом лице появляется странная усмешка. Никто, никто не знает, почему он усмехается. Он же продает свой недостроенный индивидуальный дом... а вместе с ним и свою жизнь... Кто-нибудь купит и достроит. Кто? Кто окажется этим человеком?
На улице весна, и весь город в таком ярком солнечном свете, что он проникает даже сюда, в узенькое конторское помещение, зажатое толстыми каменными стенами.
— Вы, кажется, кончили? — раздается голос за спиной у задумавшегося человека. Спрашивает полный мужчина в черном пальто из искусственной кожи. Ему негде пристроиться со своим бланком, хоть на спине другого человека пиши.
— Сейчас, сейчас.
На бланке появляются ровные строки. Выясняется, что задумчивый человек может действовать весьма энергично. Только походка у него, когда он выходит на улицу, какая-то вялая и бесцельная...
До начала смены остается меньше часу времени. Сорк — сеточник — терпеть не может, когда его люди запаздывают. На комбинате вообще не уважают тех, кто увиливает от работы, пусть даже в такие дни, какой выдался у него сегодня.
Бесцельно бредущий человек останавливается возле магазина. Полуфабрикаты. Народ называет такие магазины магазинами для холостяков; здесь можно получить вареный язык, куски жаркого, студень, винегрет; можно купить сырые котлеты, гуляш, фарш, потрошенную рыбу и многое другое. Все это дорого, но холостой человек не может считаться с этим. Он купит свиные языки — они поменьше — и сунет пакетик в карман плаща. Хлеб у него на работе есть. В магазине, неподалеку от комбината, он может купить бутылку молока.
Он не замечает, как приветливо смотрят на него иные из прохожих, особенно женщины. Женщинам нравятся добродушные мужчины. Откуда случайным прохожим знать, почему так странно улыбается этот высокий человек. Обычно считают, что если человек улыбается — значит, ему весело. Но ведь бывает и наоборот. Он, например, думает о том, что продает свой индивидуальный дом и свои надежды на счастливую жизнь. Вот и улыбается. А ведь лишаться надежды на счастливую жизнь — не очень-то веселое занятие. Это может доставить столько страданий, что потребуются героические усилия прежде, чем удастся справиться с ними.
Сберегательным кассам следует заказывать побольше плакатов, изображающих идеально красивую пару на фоне виллы с розовой покатой крышей или блестящего автомобиля. Они так мило назойливы, они находятся в таком приятном отдалении от главной трассы социализма, что даже могут заставить улыбнуться человека, который еще несколько часов тому назад считал, что безнадежно висит над пропастью.
Один из подобных плакатов следовало бы повесить на стену самого красивого недостроенного дома на улице Тарна. Это подзадорит покупателей, которые придут по объявлению, и поможет хозяину недостроенного дома встретить их с улыбкой. Ведь объявление в «Ыхтулехт»—это еще не продажа. Объявление — это лишь четверть той боли, которую ему придется испытать, а может, и меньше. Что ж, он сперва попрощается со своим любимым детищем. Быть может, там он снова почувствует неприятное жжение в глазах, как в тот раз, когда он прощался с сыном. Тогда он еще не знал, что сегодня пойдет на работу в последний раз; последний раз наденет спецовку и скажет своему напарнику: «Ну, в завтрашнем или послезавтрашнем номере читай. Продаю». Ваттеру можно было так сказать. Ваттер был человеком, к которому он отнесся несправедливо, потому что не знал причины, по которой тот не смог поехать в колхоз. И когда все вышло наружу, сердце его сжалось от раскаяния, однако подойти и положить руку на плечо друга Рейн не решился. Да и не было нужды — Ваттер сам подошел к нему однажды, стал бранить по-дружески, по-мужски. Это произошло, когда в «Ыхтулехт» появилось объявление о разводе. Как он только не обзывал его, не поносил, а все-таки на душе после этого стало легче. А теперь Ваттер на какое-то время задумался, прежде чем ответил: