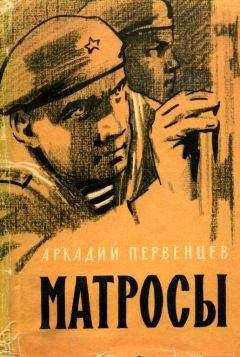Начали с приема в партию Донцова. Все, как обычно. Секретарь партийного бюро зачитал заявление, объявил фамилии рекомендующих, попросил рассказать биографию. Необычным было остальное — отсек, место, занесенное в протокол с точным указанием координат (постарался штурман), вся обстановка собрания в глубине Тихого океана, куда закинуло этого рабочего паренька, пытавшегося выкроить что-то связное из своей биографии, а ее и всей-то на полстранички.
Донцов закончил, помял пальцы, ощупав их один за другим. На вспотевшем лице появилась виноватая улыбка. Ему нечего было о себе рассказать. Конечно, если покопаться поглубже, проникнуть в его мысли, узнать все, что продумывалось им после вахт на своем губчатом матраце, немало бы возникло проблем.
— Все, что ли, товарищ Донцов? — спросил Стучко-Стучковский.
— Кажется, все… — Донцов полуоборачивается к Снежилину, ловит его ободряющий кивок и продолжает с волнением, глядя строгими глазами туда, вниз, на товарищей, хорошо знакомых ему: — Мне подсказали — надо говорить все. Если утаишь — будешь носить в себе, выскажешься вслух — организация разделит твои заботы…
— Правильно говорили, — ободрил его Куприянов.
— Не знаю, куда его занесет, — буркнул Ушакову Лезгинцев, — парень-то он диковатый…
Донцов сбивчиво начинает с того самого отцовского коробка с медалями и, постепенно овладевая речью, рассказывает об «игрушках».
— Товарищ Донцов, это к делу не относится, — не выдерживает Мовсесян.
Донцов выжидает конца запальчивых не то советов, не то упреков.
— Продолжайте, товарищ Донцов. — Волошин с явным неодобрением обращается к парторгу: — Вы, товарищ Мовсесян, не хотите, что ли, делить его заботы?
С рассказом о медалях Донцов обращается к Волошину: говорит угрюмо, будто сердится. Он намерен все выяснить, все высказать, чтобы не осталось в прошлом его ничего неясного. Донцов логично развивает свою мысль и требовательно добивается ясного ответа.
— Отец говорил, что у них на шахте в тридцать шестом вредители подожгли газ метан, погибло двадцать три человека. Вредителей забрали, расстреляли. — Донцов гневно махнул сжатым кулаком. — Как же иначе? Разве можно врага жалеть?
Собрание одобрительно зашумело. Донцов не ожидал столь активного сочувствия, опасливо глянул на парторга. Мовсесян сидел полуотвернувшись, с полузакрытыми глазами, что не мешало ему все видеть, и если он сдерживался, то только благодаря непонятной, как ему показалось, реплике командира.
Мовсесян знал неуживчивый и дерзкий характер Донцова. Замполит информировал его о разговоре с ним в штабе. Поведение Донцова не нравилось Мовсесяну. Его положение — и служебное, и как принимаемого в партию — диктовало Донцову быть сдержанным. Он бы и не полез на рожон, если бы Мовсесян в момент затянувшейся паузы снова не оборвал его:
— Все? Садитесь!
— Нет, не все. — Донцов упрямо глядел на Мовсесяна и обращался только к нему: — Я хочу, чтоб не померкла слава наших отцов. — Запальчивость его переступила границы, губы конвульсивно дернулись, щеки потемнели. — Они добили врага в берлоге! Кто лег по братским могилам, кто вернулся снова в шахты, за станки…
Мовсесян поднялся, развел руками:
— Вас трудно понять, товарищ Донцов.
— У меня ясная мысль, — упрямо заявил Донцов, — может быть, я ее не так выражаю…
Стучко-Стучковский обернулся к Волошину:
— Думаю, сейчас не место и не время заползать в джунгли.
— Не знаю, — Волошин пожал плечами, — где джунгли?
Его заинтересовал Донцов своей страстной, комковатой речью, прямотой и… верой. Он должен очень верить партии, если разрешает себе так откровенно и прямо говорить о самом важном. Он может стать хорошим коммунистом и так же круто свернуть не туда, куда надо. Что ж, Донцов не дипломат. И уже этим он нравился Волошину.
— Если мне не изменяет память, мы послали просьбу о жилье для родителей Донцова? — спросил Волошин замполита.
— Да. Курскому обкому писали. Вернемся, прочитаем ответ.
— Вы с ним беседовали?
— А как же.
— А вы? — Волошин повернулся к парторгу.
— Не знал, товарищ командир, — признался он, — что вынашивает такие настроения! — Мовсесян любил, чтобы партийная работа проходила по струночке, и искренне переживал свою неудачу.
— Какие там настроения! — кинул Волошин с досадой. — Не делайте поспешных выводов.
Первым выступал Кисловский, взявший слово лишь для того, чтобы прийти на выручку парторгу и, «сняв налет сенсационности» (так заранее сформулировал он свою задачу), направить прения по деловому руслу.
У Кисловского отец жив, войну провел в эвакуации, кажется в Уфе. Солидный научный работник, не академик, не член-корреспондент, но крайне нужный специалист-теоретик.
Кисловский умел говорить убедительно, неторопливо, логически развивать и укрупнять любую, казалось бы, незначительную мысль. Ни слова о медалях, но достойно о подвиге отцов. Ничего о могилах, а только — жизнь… Кисловский дает хорошую характеристику Донцову как студенту-заочнику, также и его товарищу по курсу комсоргу Глуховцеву. Кисловский затрагивает тонкие струны и заставляет себя слушать с повышенным вниманием. Если бы в отсеке были мухи, то их полет был бы слышен. Восемь из десяти матросов и старшин либо учатся, либо рассчитывают во время службы подготовиться для поступления в вуз.
— Умеет чертяка взять за жабры, — мрачно похвалил его штурман, — не говорит, а лепит из слов фигуры…
Снежилин вел протокол. Донцову досталось почти две страницы, а речь Кисловского мичман уложил в четыре строки.
— Маловато, — указал штурман Снежилину, — крутился долго.
— На одной оси, — пояснил мичман.
Слово просит Муратов.
— У меня мал запас русских слов, — начал Муратов, — но такие слова, как хороший человек, надежный друг и верный товарищ, я знаю… Меня учил русскому языку Донцов, как капитан-лейтенант учил Донцова радиоэлектронике, — указал глазами на Кисловского. — Донцов прямой человек, он рубит вот так, — сделал рукой подсекающий жест, — кому нравится, кому нет, а он рубит, — повторил тот же жест. — И чуткий он. — Муратов произнес «чудкий». — Донцов достоин партии… Товарищ боцман просит слова. Пожалуйста, я кончил.
За свою яркую рыжину и твердый характер боцман получил прозвище «кремень-огонь», но крепче укоренилась вторая безобидная кличка — «такильнет».
Четвертаков буквально выползает из-за спины старпома и вразвалку, раскачивая плечами, протискивается к столику. В его руке кусок ветоши от разового белья. Ею он протирает замасленные руки. Боцман опоздал, но часть выступления Донцова все же захватил.
— Тут захваливали товарища Донцова, так иль нет? — Боцман откашлялся. — Я считаю, заслуживает, а все-таки над своим характером стоит ему подумать, так иль нет? Резкий у Донцова характер и неуступчивый. Могу подтвердить примерами, только и так все знают… Родители есть родители, а мы не детишки, так иль нет? — Четвертаков смял ветошь, пристукнул кулаком по своей крутой груди. — Доверили нам корабль, идем, и дойдем. Никто у нас славу отцов не отнимает, и мы ее не отдадим никому, так иль нет? — Переждав одобрительный гул, обратился к Донцову с укоризной: — В партию идешь — становись в первую шеренгу, это и есть партия. Первая шеренга — партия. Игрушки забудь, Донцов! Поиграл — и будет! — Послышался смех. Четвертаков закончил просто: — Донцов заслуживает, моя рука за него…
После боцмана решили дать слово комсоргу Глуховцеву и прения прекратить. Глуховцев — настоящий комсомольский вожак подводной лодки. Переняв многие черты поведения у своего непосредственного начальника Лезгинцева, он требовал от комсомольцев перво-наперво отличного исполнения службы, считая это самым главным достоинством. Болтунов, если они объявлялись, комсорг быстро выводил на всеобщее обозрение и добился высокой дисциплины. И сам он был под стать своему характеру: такой же крепкий, с развитыми плечами, непропорционально широкими для его низкого роста. Глуховцев из рабочей семьи, учился в техникуме, сибиряк, из Омска. На флоте дошел до главного старшины. За один из арктических походов получил медаль «За отвагу» и, как утверждал Лезгинцев, отлично освоил атомную энергетику, а свое непосредственное заведование — турбины — чувствовал, как хороший музыкант инструмент.
Глуховцев дружил с Донцовым. Выступление Кисловского он похвалил, так как главное у Донцова — стремление учиться, «не топтаться на месте». С боцманом Глуховцев не согласился, зачитав рекомендацию бюро комсомольской организации, где, по-видимому, под принципиальностью подразумевалась та самая неуступчивость, в которой упрекал Четвертаков Донцова, а резкость в документе бюро названа более верно — прямотой.