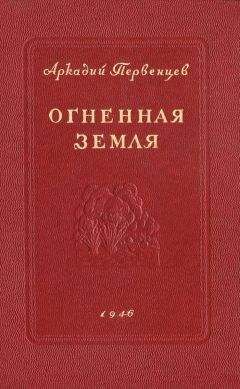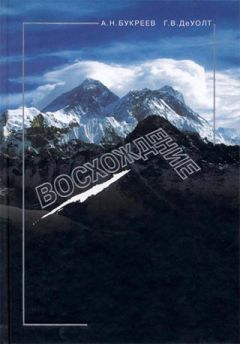По траншее, от взвода к взводу Букреев вышел к морю.
У противника на всхолмках горели костры. Вместе с туманом покачивался слоистый дымок, и сейчас казались глубоко мирными все эти картины приморья. Обрывки обветшалых сетей с прилипшей чешуей завернулись вокруг редких стеблистых бурьянов, о камни стучались обгорелыми краешками гильзы, бакланил морской ворон, и приятен был его резкий, отрывистый крик.
Где‑то ворчали машины «бэ–дэ–бэ». Кажется, кто‑то на судне командовал по–немецки в мегафон. Тендер Шалунова еле угадывался между «охотниками», вынесенными штормами к отмелям. Погибшие корабли были тщательно выпотрошены моряками, и последнее время оттуда таскали щепки для печурок.
Под склоном берега два моряка, стоя на коленях, рыли могилу в мокром песке. Моряки трудились медленно, для сохранения сил часто отдыхали, присаживаясь на лопаты.
Над берегом, с автоматом наготове, не обращая внимания на волны, захлестывающие его по колена, крался Манжула. Так хороший охотник выслеживает дичь. Манжула мог также слышать крик баклана, и желание угостить этой дурно пахнущей птицей своего командира, может быть, и заставило его брести по прибою. Последние дни Манжула и Горбань отдавали все свое время поискам пищи.
Букреев хотел уже окликнуть ординарца, но тот бросился вперед, разбрызгивая воду, и пропал в тумане. Вскоре с той стороны, куда он исчез, донеслась короткая очередь автомата, крики и площадная брань. Букреев, выхватив пистолет, побежал на помощь ординарцу.
Манжул а то отпрыгивая, то наскакивая, размахивал прикладом, дрался с двумя неизвестными людьми. Один из них, очевидно, только что раненный им, получив от- машной удар прикладом, зашатался и упал, раскинув руки. Пальцы его несколько раз конвульсивно сжались, разжались — и застыли. Второй, сшибленный кулаком ординарца, подняться не мог, так как на нем верхом сидел Манжула и крутил на спине руки.
Уткнувшись лицом в песок, рыча и отплевываясь, человек пытался вырваться. На шее вздулись жилы, лицо густо налилось кровью.
— Не уйдешь, — бормотал Манжула, сдавливая пленника коленями и упираясь в его спину локтями. — Не уйдешь!
— Пусти, мать твою… — рычал тот. — Пусти, кудла! Шестерка, проклятая…
— Шестерка?
Манжула крепче стиснул его и с размаху ударил кулаком по затылку.
Снова выплеснулись грубые ругательства и какой‑то хрипящий клекот. На выстрелы прибежали пулеметчики крайней точки и среди них возбужденный Шулик с гранатой в руках и в бескозырке, отброшенной на затылок.
— Манжула! Те самые? — кричал Шулик.
Заметив комбата, Манжула встал, но не отпускал ногами лежавшего человека.
— Что вы делаете, Манжула?
— Те самые, товарищ капитан, что я говорил, — прерывающимся голосом ответил ординарец и опустил свои побитые до крови руки. — Я за ними третьи сутки слежу. Позавчера не мог опознать, утекли по яру… Хотели на бочке–перерезе уходить. А сегодня по туману хотели тикать на нашем, на тузике…
Тузик подбивало волной. В лодке виднелся вещевой мешок, чайник, доски, обструганные под весла, кастрюля, вероятно, прихваченная для выкачки воды, винтовка, автомат, несколько патронных дисков в чехлах.
Возле лодки орудовал Шулик, выбрасывая оттуда все эти предметы. Диски перекинул в ладонях.
— Краденые, товарищ капитан, — возмущенно выпалил он, подбежав к Букрееву, — вот метины чужие! Сами тикали, да еще других подбивали.
— Ты хотел бежать? — спросил Букреев.
Связанный перемялся с ноги на ногу и отвел в сторону глаза.
— Отвечай командиру батальона! — запальчиво пригрозил Шулик.
Пулеметчики, собравшиеся вокруг, зашумели. Ни в одном лице Букреев не нашел сочувствия. Если мертвому как‑то было уже прощено, то этот живой, хмурый человек, сразу переставший быть их товарищем, сделался врагом.
— Ты решил предать своих друзей?
— Все равно побьют.
— И потому решил бежать?
— Все равно побьют, — с озлобленным раздражением, не поднимая глаз, повторил он.
— Перед десантом ты давал клятву?
— Давал.
— Присягу принимал?
— Как полагается… Принимал.
— А если каждый из нас так поступит? Ты знаешь, что делают с такими, как ты?
— Деваться некуда… Что тут, что там… — связанный рванулся вперед, закричал: — вы тут за орденами сидите, а мы…
— Разрешите, товарищ капитан, — горячо запросился Шулик. — Я его срежу по уху за такие слова. Ах, ты, ряшка!
— 'Мы — военные люди и сидим здесь потому, что выполняем приказ, — медленно сказал Букреев. — Если каждый будет думать по–твоему и так поступать, некому и негде будет и орденов давать, а самое главное, не з а что. Понимаешь?
— А пошли вы… развяжите! Развяжите!
Букреев вгляделся в лица окружавших его людей и прочитал приговор.
— Убить его, как собаку! — крикнул Шулик, и его поддержали остальные.
Человек упал и натужно пополз к Букрееву, оставляя в песке колею. Он полз и как будто тихо повизгивал. На губах его, растресканных и обветренных, появилась кровь, в глазах был ужас, такой ужас, что Букреев не мог смотреть на него. Еще немного, и он не в состоянии будет проявить ту твердость духа, которая сейчас от него требуется.
— Манжула!
— Я слушаю вас, товарищ капитан.
Сдерживая свое волнение огромным напряжением воли, Букреев сказал:
— Манжула, исполняйте приговор…
Он видел, как полились слезы из глаз осужденного, как, всхлипывая, он поднялся на ноги и, повинуясь Манжуле, покорно повернулся лицом к морю. Осужденный неожиданно напомнил Букрееву ходившего по дворам в их городке парня–огородника, продававшего редиску и зеленый лук. Он ходил с корзиной, настороженный, худой, вздрагивая, когда из подворотни выскакивала собака. Тогда, в детстве, ему было жалко парня, тяжело было смотреть на худые опорки и рваные штаны.
Букреев отошел в сторону, но заметил, как Шулик зло ударил осужденного кулаком, и услышал голос Манжулы: «Не тронь, Шулик».
Выносилась длинная и сильная волна, как это бывает при отмелях. Тузик повернуло и захлестывало, и он, словно живой, кивал носом. На армейском фланге редко стреляла полевая пушка и какими‑то озябшими очередями стучали пулеметы.
Манжула крикнул:
— Гляди последний раз на море, шкура!
Раздались два негромких пистолетных выстрела. Кажется на сырой песок рухнуло тело. Не оглядываясь назад, Букреев поднимался к командному пункту.
Ночью Шалунов ушел к Тамани, захватив раненых и письма. Моряки поднимались в траншеях и своим чутким слухом улавливали постепенно затихающий шум моторов бронекатера. Говорили о своих кораблях, вспоминали мирные дни и боевые походы, а потом отправлялись на поиски пищи. С щупами и лопатами тщетно искали ямы с зерном и овощами, варили листья свеклы с консервами — на десять человек одна банка — и ужинали. Кое‑кто ходил в разведку, просачиваясь через линию фронта. Разведка связывалась с продоперацией. Теряли людей, но все же приносили галеты, сухие овощи, консервы, кофе и редко — спирт.
Разведчики добывали сведения о противнике, иногда приводили «языка». Пленные показывали, что от плацдарма отведены войска, штурмовавшие первые дни, а на их место пришли свежие части с южного побережья и от Сиваша. Этой же ночью, после того, как утихла стрельба, Гладышев прислал красноармейцев за газетами, привезенными Шалуновым для дивизии. Вместе с ними пошел Букреев, решивший проведать Таню. Его тянуло к ней, хотелось быть возле нее, говорить с ней. Это непреодолимое влечение можно было объяснить по–разному, но только не в дурную сторону. Никаких плохих замыслов по отношению к Тане у Букреева не было, и во время их коротких встреч он старался это подчеркнуть. Она отлично понимала его своим женским чутьем и, в свою очередь, тепло и доверчиво относилась к нему. Между ними установились дружеские отношения взаимной симпатии и доверия. Еще с Геленджика, с памятной встречи у крыльца штаба, устанавливались эти отношения.
Отделившись от красноармейцев, Букреев повернул к школе. Он нашел Таню радостной и возбужденной.
— Жаль, что темно, Николай Александрович, — сказала она, пожимая его руку, — я прочитала бы вам, что пишет мой Анатолий. Он, оказывается, умеет писать чудесные письма.
Бумага шелестела в ее руках. Белое пятно то шевелилось у ее коленей, то вспархивало, как голубь, повыше. Они сидели на камнях. Серые облака напоминали им их первое становище на Таманском полуострове, возле Соленого озера. Букрееву хотелось о многом поговорить, рассказать о письмах жены, многим поделиться. Но он молчал и видел только этот порхающий лист бумаги, светлые глаза своей собеседницы, поблескивающие даже сейчас, в темноте.
Она перестала говорить о Курасове, о себе, и, приблизившись к нему, тихо и извинительно произнесла:
— Я так счастлива за вас, Николай Александрович.
— Вы… насчет награды.
— Нет, нет. То мы уже пережили, порадовались. Я говорю о вашей семье. Она в Геленджике. Совсем близко отсюда. Анатолий и об этом мне написал.