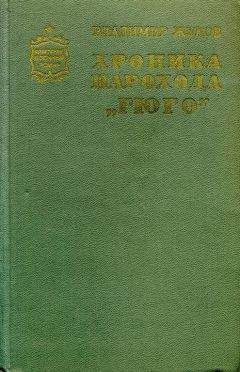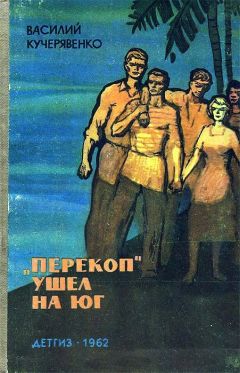Так я размышлял, стоя на палубе. В ночной тишине было хорошо слышно, как шлепает по реке колесо идущего сверху парохода. Потом накатились огни, а за ними пришли волны, застучали по борту. Я снял фуражку и снова надел, растерянно решая, что же предпринять. Вообще-то следовало пойти к вахтенному помощнику. Я даже представил, как объясняю ему, что случилось, и как он долго не понимает, переспрашивает, а потом мы идем к старпому, будим его и снова говорим, объясняем — теперь вдвоем. А минуты бегут, драгоценные минуты, и Жогов вместе с долларами уходит дальше и дальше.
И тут же подумалось другое: вот и я стою и тоже теряю время, а побежал бы сразу, когда увидел опустелый шкаф, и наверняка настиг бы беглеца. («Правильно Щербина говорил: решаю мировые проблемы, тогда как надо сделать, с а м о м у что-то сделать сначала. Как он, Андрей, кинулся к тем мальчишкам, что играли на берегу, как потом подавал тросы...»)
Решение было принято, и я уже заботился только о том, чтобы мне не мешали. Потом все объясню. А пока сам, вое знаю сам и сам сделаю. Важно ведь успеть до утра.
Я вышел к трапу, и старшина Богомолов, по-прежнему ходивший взад и вперед возле молчаливого полицейского, спросил:
— Ну как?
— Ничего, — ответил я и тотчас повернулся, пошел в красный уголок, поманил из теплой, пахнущей сухими листьями темноты Маторина и сказал ему:
— Постой за меня вахту. Ладно? Час, наверное. Может, два.
Он, я думал, удивится, Сашка. Ведь такого никогда не бывало — стоять за другого вахту, разве что когда Реут в кладовку меня посадил, под арест. Но он только тихо спросил:
— Живот, что ли, болит?
Я знал: на воде, под кормой, должен быть плот. Несмотря на суматоху с поворотом, с гробом, с венками, Реут приказал, чтобы матросы работали, и Стрельчук, поругиваясь спустил на воду небольшой плот из досок, чтобы с него, пока еще пароход стоит, можно было подкрасить борт.
Плот оказался на месте. Его только здорово отнесло к сваям, и я долго тянул, натужившись, за конец, пока плот не поддался, не приблизился к нависшему над темной рекой кормовому подзору. Тогда я размотал свободный конец и кинул его за борт. Закрепил и перебросил ногу через поручни.
Жгло и резало руки, и под ногами, рядом совсем, я чувствовал, вода. Подтянулся метра на два и оттолкнулся от борта. Снова заскользил вниз, радостно почувствовал под собой шаткий край плота. Выпрямился, закачался танцором.
А глаза искали сваю. Ту, что я случайно заприметил днем, — со ступеньками-перекладинами, врезанными в черный смоленый ствол. Присел на корточки, стал грести ладонями, чувствуя упругий напор течения.
Плот развернуло. Я вытащил из ножен финку, резанул конец, который тянулся сверху, с парохода, и снова стал грести, пугаясь мысли, что это не помогает, боясь, что плот пронесет мимо.
Потом удар, доски заходили, раздались под ногами. Я обнял сваю возле ступеньки и услышал, как что-то булькнуло тихо и пропало.
«Нож, — подумал с сожалением, поднимаясь вверх, перебирая выступы на свае. — Жалко». И оглянулся в темноте.
Плот исчез. Что-то пело, крутилось и неслось там, внизу. Отступать было некуда.
Я старался, самое главное, чтобы меня не заметили Богомолов и тот переодетый полицейский у трапа. И хорошо, народу поблизости не было, а место я более или менее знал — быстро оказался у шлагбаума, дальше тянулась асфальтированная дорога. Фонари горели ярко, как бы звали: ну иди, дальше иди — вон до того столба. И потом: еще до того, до угла, вон до той надписи из неоновых букв.
Светящаяся вывеска украшала салун, а может, бар; он, несмотря, на поздний час, еще работал: хозяин возился за стойкой, и кто-то сидел на высоком стуле, спиной к большому стеклянному окну. Навряд ли это мог быть Жогов, но я на секунду сдержал шаг, присмотрелся. И тут же из двери вывалился человек, сильно пьяный. Он схватил меня за рукав, куда-то звал, но я вырвался и побежал мимо витрин магазинчиков, наглухо закрытых дверей контор. И ни души кругом, мертвая тишина, особенно ощутимая после криков пьяного. Улица поползла вверх, и я понял, что это к шоссе, даже обрадовался.
Я и намеревался попасть туда — на большую автомобильную дорогу, разрезавшую Калэму, надвое, вдоль отлогого склона холма. Когда ходил со Щербиной на свалку и стоял на куче искореженных машин, то понял: бетонка тянется вдоль реки и, значит, в восточном направлении ведет к Портленду — больше ей, такой широкой, на шесть рядов автомобилей, бежать в здешних местах было некуда.
Я считал, что Жогов непременно должен устремиться к этому шоссе — не в сонной же деревенской Калэме оставаться ему! Попросится в любую проезжающую легковушку — и, пожалуйста, в Портленде. Городище огромный, ищи свищи!
А ноги ослабли, сердце колотилось на пределе. Потом, верно, открылось второе дыхание. Как у бегунов.
Вот уж и появилась бензоколонка — стеклянный домик, освещенный изнутри, с желтой ракушкой-веером на крыше, и по ракушке кроваво-красные буквы: «ШЕЛЛ». Слепящие зрачки фар какой-то машины подозрительно оглядели меня, я отбежал в сторону, споткнулся о каменный борт тротуара и понял, что стою на бетоне шоссе.
Мимо, промчалась легковая. Потом сразу три и еще грузовик, здоровенный, дизельный.
А Жогова не было.
Я опять почувствовал, как ослабли, устали от долгого бега ноги, в груди заныло. Двинулся по краю шоссе — туда, где дома сближались, образуя ровный край улицы. Неоновых вывесок здесь не было, только кое-где горели фонари.
Собственно, идти сюда было незачем. С таким же успехом можно пересечь шоссе или пойти в другом направлении. Но я и не думал, куда иду, мне требовалось время, чтобы собраться с мыслями, решить, что делать. Погоня не удалась, это стало совершенно ясно. Хуже другое: я сбежал с судна, с вахты, и меня могли уже искать. А если и не хватились еще, то надо суметь снова оказаться на палубе, чтобы не заметили.
Да, теперь беглецом был я.
Впереди открылась небольшая площадь. За ней виднелась улица, и там, вдали, я вдруг узнал вывеску салуна, мимо которого недавно проходил. Сделав круг от бензоколонки к площади, можно, оказывается, возвратиться к причалу. А на площади, в самой ее середине, торчало кубом небольшое здание. Возле него рядком стояли автобусы и ходили люди — медленно, по-ночному.
Сначала я сбавил шаг: мне, беглецу, встречаться с людьми лучше не надо, но переборол себя и двинулся дальше — не по тротуару, не к той улице, где был салун, а наискосок, к автостанции, потому что увидел белый фонарь с надписью «Мен», то есть «для мужчин». Мне нужно было заскочить туда на минуту.
Внутри пахло дезинфекцией. В дальней кабине сорвалась, прошумела вода. Я толкнул дверь, что была поближе, и сразу под невысоко обрезанной над полом перегородкой увидел ботинок — небольшой, коричневый. Серая Штанина низко прикрывала его и была шире, чем носят американцы. Я это твердо знал, что шире, не носят здесь так!
Метнулся неслышно к двери кабинки — посмотреть, проверить, но понял, что там заперто, и, приподнявшись на цыпочках, пугаясь насмерть того, что делаю, заглянул через перегородку.
Шляпа, макинтош. Все серое, только разных оттенков. Человек, привалившись в угол, читал сложенную в несколько раз газету.
Край шляпы пополз кверху. Рука, державшая газету, опустилась. На меня глянули серые, с выгоревшими ресницами глаза. В них промелькнуло сначала недоумение, потом испуг.
— Ты? — сказал Жогов тихо, очень тихо, но его слова все равно отдались гулким эхом. — И ты здесь?
Я больше не мог держаться на цыпочках. Выскочил из кабины, задергал ручку соседней двери. Жогов тотчас появился во весь рост, во всем своем сером выходном великолепии.
— Значит, и ты здесь? — повторил он. — Вот так но-о-вость! А что же не переоделся? Не смог? — Он посмотрел на часы. — Автобус скоро уходит.
— Отдай деньги, — сказал я.
— Что? — Жогов смотрел на меня с искренним изумлением. — Какие деньги?
— Которые грузчики собрали. Андрею. Доллары.
— Ах до-оллары... Ишь ловкий какой!
— Отдай, сейчас же отдай!
Потом мне казалось, что все пошло дальше так плохо оттого, что я неудачно, слабо ударил его. По существу, толкнул. Жогов потерял равновесие лишь из-за качавшейся сзади дверцы. Так или иначе он устоял, вывернулся, и теперь уже я не мог преградить ему путь.
— Сволочь! — сказал Жогов, зачем-то отряхивая полы серого макинтоша, не глядя на меня. — Подонок... — И вышел.
На площади урчал дизелем автобус. Жогов уверенно направился к нему, скорее машинально, чем для дела, поглядывая на свои наручные часы. И я понял, что он хорошо знал, куда идет этот ночной автобус, специально выбрал его, а пока прятался, поджидая в уборной.
Федька вскочил на подножку и исчез. Потом в дверь пролез пожилой мужчина, одетый по-рабочему, с ленч-боксом под мышкой, а за ним два солдата с форменными парусиновыми мешками. Больше никто в автобус не садился; я чувствовал, что он вот-вот тронется. Тронется — и тогда все, конец.