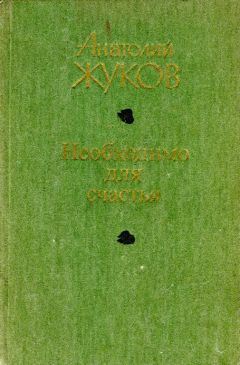— Не стоит об этом, — сказал хозяин. — Давняя история, каменный век.
Тогда у него появилась возможность стать ведущим, после той истории, и он использовал эту возможность, но ведущим стал только номинально.
— Почему не стоит? Ведь наша конструкция оказалась самой удачной, ее взяли на вооружение, и нам не в чем упрекнуть друг друга. — Он замолк, услышав за стеной то ли осторожные шаги, то ли шуршание ткани. — У тебя кто-то есть или мне послышалось?
Хозяин встретил его взгляд чистыми глазами и улыбнулся вполне естественно. Гость смутился:
— Знаешь, в последнее время у меня что-то пошаливают нервы, и вот сижу вечером один, и мне то шаги послышатся, то еще какие-то звуки…
— Кошка, вероятно, скребется, — сказал хозяин.
— Ты завел кошку?
— Да нет, соседская забежала. Вечером забежала — и сразу в спальню. Пусть, может, мыши есть, хотя вряд ли.
— Да, вряд ли. Откуда здесь мыши, в этих домах не бывает мышей. Вот мы ездили в деревню к моим старикам — помнишь, прошлым летом, после свадьбы мы с ней ездили? — там да, там они прописаны постоянно, и она ужасно боялась их шуршания и радовалась, когда мы возвратились домой.
Он сидел, ссутулясь, усталый, небритый, и глядел на друга с доверчивой откровенностью.
— Она умеет радоваться, так мило у нее выходит, и сама она красивая и милая, правда? Мы тогда возвратились вечером, я соскучился по своим чертежам, и она сварила мне черный кофе. Вот так же я сидел на кухне у стола, а она поставила кофейник, повернулась ко мне и поцеловала в нос. У тебя, говорит, мужественный, великолепный нос — греческий! Смешно, правда? А у меня самый ординарный нос, как у тебя, и все знакомые говорят, что мы немного похожи. Ты извини, что я так разболтался, по-моему, ничего предосудительного, тем более, что мы друзья и она к тебе хорошо относится. Чего ты прислушиваешься? Да выстави эту кошку, и пусть бежит домой. Впрочем, сейчас уже поздно, ее могут не пустить, а на улице холодно. Такой холод, никак не дождешься тепла, хотя уже март, пора бы отмякнуть, о весне напомнить — нет, зима, нескончаемая зима…
— Да, действительно, — сказал хозяин.
— А она любит тепло, уют, софу у батареи поставила, кресло дежурит у книжного шкафа, и мне приятно смотреть, когда она что-то делает или читает. Удивительно мило у нее получается! Дома она ходит в бриджах и открытой кофточке, и когда я свободен, она садится у ног на пол и зарывается лицом в колени: «Мой повелитель, — шепчет, — мой хозяин, славный ты мой!» Смешно, верно? Разумеется, смешно, и все-таки жаль, что последнее время она не говорит таких слов, ведь это такие приятные слова, в груди что-то расслабляется, тает, забываешь дневную суету, спадает напряжение, руки сами тянутся к ней, и сажаешь ее на колени, как ребенка, и… Ты не болеешь, дружище, нет? Что-то ты поморщился, как от боли. Не зубы беспокоят?
— А?.. Да, да, зубы, второй день что-то. — Он прижал ладонью щеку, пососал зуб.
Такое унизительное состояние, невыносимое, и ничего нельзя сделать.
— У тебя вроде хорошие были зубы, ты никогда не жаловался, или с возрастом приходят разные недуги? Впрочем, нам смешно пока говорить о возрасте. Тебе тридцать два, кажется?
— Тридцать три, — сказал хозяин, потирая щеку.
— Да, ты ведь на год младше меня, совсем забыл. Вчера еду с работы, и парень в автобусе, лет пятнадцати парень, называет меня дядей. Понимаешь — дядей! Справедливо, разумеется, и пора, пора нам вспомнить о возрасте. Да он и сам уже напоминает: на каток ходить перестал, в театры — только по праздникам, на футболе предоставляю вопить другим. И не жалею: хочется работать, работать. Помнишь у Пушкина: «…Давно, усталый раб, замыслил я побег, в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Хорошо, а? У тебя, впрочем, была сильная страсть — женщины, но вот и ты сидишь дома один, вероятно, много работаешь…
— Не очень, — сказал он.
— Жениться тебе надо, дружище, тебе жениться, а мне — породить сына. Это ведь здорово, когда рядом сын и любящая жена, я давно мечтаю о сыне, жаль, что она пока не хочет, говорит, надо подождать, ей ведь всего двадцать шесть, испортится фигура и так далее. Типичная современная горожанка. Нет, я не осуждаю, не думай, мне тридцать четыре года, она собирается поступить в аспирантуру, мы еще успеем с сыном… Я тебе не надоел своей болтовней?
— Ну что ты, сиди!
— Я сейчас уйду, ты и так, наверное, озадачен: такой молчун — и вдруг ни с того ни с сего говорит и говорит. Сейчас я уйду. Понимаешь, иногда появляется потребность поговорить, а не с кем. Уйду, кофе сварю, за чертежи сяду. У меня что-то интересное получается, жаль только, отвлекаюсь беспричинно, отключаюсь и думаю о жене, которая уехала, о сыне, который не родился, о друге, который перестал ко мне заходить…
— Я зайду, — сказал хозяин. — Я постараюсь зайти.
— Не знаю, почему, но трудно сосредоточиться, отключаюсь как-то произвольно, независимо от того, устал я или нет, и в голову лезет разная чепуха, подозрения какие-то, и это досадно, оскорбительно, ведь она такая чистая, у меня нет никаких оснований усомниться в ее верности, а я все-таки сомневаюсь, чувствуя себя самым распоследним подонком. Может, мне следует перебраться со своими бумагами в общий отдел, а то на работе один и дома один. Впрочем, она скоро вернется. Она ведь уехала на два-три дня, в понедельник вернется, к сестре поехала. Сестра у нее на год младше, такая же красивая и милая, жаль, замужняя, ты мог бы посвататься. А? Тогда мы дружили бы семьями, работали, ходили бы в гости по выходным. Хорошо, а?
— Хо-орошо. — Хозяин с трудом подавил нервный зевок.
— Кофе пили бы. Кстати, у меня есть лимон, не составишь ли компанию?
— Что ты, поздно!
— Н-да, поздно, ты прав, уже поздно. А как было бы славно.
Он глядел на хозяина сочувственно и потирал щетину на подбородке. Шапка его стала подсыхать, мех торчал косицами, широко растеклась под ногами лужа: оттаяли ботинки.
Ему не хотелось идти домой, но он пойдет, сбросит мокрую одежду и, сварив кофе покрепче, начнет работать — медленно, трудно, но начнет и постепенно освободится от своего одиночества, забудется и даже станет веселым, ведь у него интересная тема, она оформится в совершенную конструкцию узла, сотни и десятки сотен узлов и деталей составят современную машину, которая со сверхзвуковой скоростью понесет людей догонять свое счастье.
Он встал, обеими руками поправил шапку.
— Тебя проводить? — спросил хозяин.
— Проводи, если хочешь. Но лучше не надо: там холодно, ветер и снег. — Он окинул взглядом тесную кухню и пошел к выходу. — Будь здоров и заглядывай, когда сможешь.
— Всего доброго.
Дверь захлопнулась, звонко щелкнул замок.
Хозяин постоял в прихожей, поглядел на закрытую дверь, за которой скрылась слегка сутулая, как под грузом, спина, и возвратился в кухню. Спички остались забытыми на столе.
— Господи, как же долго, я совсем измучилась! — Она смотрела на него с тревожным ожиданием. — Там все слышно, в спальне, каждый звук.
— Да, слышно, — сказал он, вставая опять у плиты и прислоняясь к подоконнику, — все слышно, даже шорох. Не понимаю, о чем думают строители.
— У них план, зачем думать. — Она опустилась на стул возле стола. — Кирпичные дома какую-то звукоизоляцию имеют, а эти… как они называются?
— Не знаю точно. Крупнопанельные, кажется, или крупноблочные. Их даже не строят, а собирают, монтируют. Впрочем, довольно быстро, и надежно. Когда смотришь, картина кажется весьма впечатлительной, красивой даже.
Лужица на полу исчезла, впитываясь в трещинки меж половиц и подсыхая.
— Да, да, я видела однажды. Краном поднимают такой большой кусок стены, приставляют, как-то там закрепляют… Ты не знаешь, как они закрепляют?
— Кажется, там есть монтажные петли, и, кроме того, стыки заливают раствором цемента. Кажется, так.
— Да, да, именно так. И вот закрепят, а в этой, стене уже окно, стекла вставлены, рамы покрашены, а потом сверху опускают плиту…
— Не плиту, а потолочное перекрытие, — сказал он, радуясь этому разговору.
— Верно, потолочное перекрытие, как я забыла! Я ведь читала в газетах и кино видела осенью. Помнишь, там еще этот играет… на цыгана похож… ну черный такой… как его?
— Помню, помню. Он ведь упал, с лесов, но не разбился, а повредил что-то — ногу или руку.
— Нет, это другой упал с лесов, из другого фильма, там не дома строили, а завод, или еще что-то, и он пел веселую такую песню, вот забыла только, какую, ты не помнишь?
— Верно, верно… Старая такая лента, давно вышла, я студентом ее видел или школьником.
— Нет, это я школьницей видела, а ты студентом уже был, в пятьдесят пятом она вышла или в пятьдесят третьем, очень гремела тогда. Не понимаю, почему прошлой осенью, когда мы зашли в этот «Повторный фильм», я зевала, и ты тоже скучал, никакого интереса. А ведь тогда я восхищалась, и все мы восхищались. Почему?