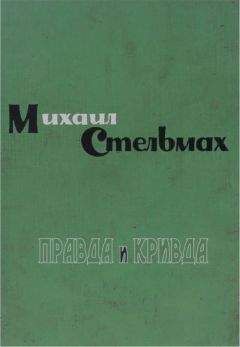Марко поморщился, презрительно охватил все кособокое удовлетворение, просматривающееся не только в пьяноватых глазах и туго натянутых, без единой морщины губах кладовщика, но и в плотных пучках разноцветной щетины, которой Шавула в войну набавлял себе возраст.
— Радуешься, Мирон?
Кладовщик на мгновение прикрыл злорадство широкими веками, подобными столбам, а когда они снова метнулись вверх, то уже смех светился в мелких зрачках и больших белках.
— Спрашиваешь, радуюсь ли? Да не очень веселюсь, но и не крепко печалюсь — незачем, гы-гы-гы… — так засмеялся, будто вытрясал смех из пустой середины.
Марко, прислушиваясь к такому непривычному хохоту, похвалил кладовщика:
— А хорошо ты гигикаешь.
— Как умею, — не знает Шавула обидеться или удивляться. — А спросить бы, Марко, почему?.. Хоть мы и живем в одном селе, хоть ты мне где-то в седьмом или восьмом колене даже родней приходишься, но от тебя я никогда доброго слова не услышал. Не правду говорю?
— Правду, Мирон, — охотно согласился Бессмертный. — Как-то ни добрых слов, ни душевности никогда не было между нами, никогда, и навряд ли скоро будет.
— Вот видишь, какая у тебя натура, не тот… Так зачем же мне переживать о тебе, когда ты по собственному желанию взял и наступил на саму беду? Интереса реального не вижу… И сам не знаю, почему нам с тобой всегда было тесновато в одном селе. Тесновато и теперь, когда в селе стало просторнее, а на кладбище теснее. По какой бы это причине?
— А ты не знаешь этой причины? — уже заинтересованно спросил Бессмертный, берясь за костыли.
Откровенная болтовня Шавулы даже начинала нравиться тому: только под хмельком такая парсуна может вывернуть свое нутро, хоть и противное, но цепкое, как все, что приспособилось не создавать, а выхватывать, выдирать, пить, сосать.
— Таки по-настоящему не знаю, чего нам тесновато, как на кладке, с тобой, а только догадываюсь и так маракую по-своему, — удобнее уселся на телеге Шавула. — Ты, как кажется мне, нагрузил на свои плечи непосильную ношу: хочешь, чтобы все село взяло да и перешло в твою единственную веру. А я не желаю перед нею шапку снимать: у меня есть свой бог, свой закон, и я хочу жить сам по себе, сам в свою волю, насколько это можно при советской власти. Так мне и просторнее, и полезнее.
— Это верно. Ты всюду, Мирон, и всегда искал только такого бога, который капал на тебя золотыми слезами. Но ты не только у бога, но и у черта искал себе выгод. Сколько я тебя знаю — на рубле зависла твоя душа.
— А как же иначе? — чистосердечно удивился Шавула, и удивилась его разномастная щетина. — И рыба в воде, и птица в небе, и даже слепой крот в норе одинаково ищут себе своей выгоды, ищу и я ее, или своего рубля, как говоришь ты. А когда уж нахожу какую-то безделицу — не выпускаю из рук. О!
— Беда твоя даже не в этом, а в том, что руки у тебя липкие от этого скользкого рубля. И не рыба в реке, не птица в небе, даже не крот в норе, а шершень возле чужого улья, шершень, что и мед поест, и пчелу надвое перекусит.
— Вот в этом параграфе, Марко, ты уже загибаешь, — не возмутился, а деловито начал поправлять кладовщик. — Что иногда к моим рукам что-то прилипает, никак не отрицаю, потому что нет такого даже в законе, чтобы возле ульев ходить и меда не пробовать — это ненатурально будет. Ну, а чтобы кого-то перекусывать надвое или начетверо — этим категорически не занимаюсь. Я не такой жестокосердный, как Тодох Мамура, — такое мне самому ни к чему и невыгодно. О!
— А воровать выгодно?
— Понемногу — выгодно, а много — страшно, чтобы не влипнуть, а у меня же и хозяйство, и жена, и дети есть… Ну, чего так смотришь и косишься, будто впервые увидел Мирона? Не все же могут и хотят быть крепко идейными. Ты, например, желаешь быть идейным — будь им себе на здоровье, не прекословлю, не мешаю, но и не завидую. За все свои идеи аж с восемнадцатого года и поныне ты заслужил на плече одну солдатскую шинелишку и двое костылей под подмышки — и не горюешь.
— Я проклинаю свои костыли, но и горжусь ими! А проклинаешь ли ты свою душу, повисшую на костылях!? — вскипел Марко.
— Подожди, и об этом что-то, наверное, скажу, — пренебрежительно скривил улыбку Шавула. — Значит, заработал ты за долгие годы шинелишку и костыли и этим гордишься, потому что больше всего думаешь не о себе, а обо всех международных, мировых неблагополучиях, о революции, контрреволюции, демократии и разной оппозиции. А мне все это, даже когда сообща взять, и за ухом не зудит, мне, безыдейному, хочется хоть небольшого, а своего. Я желаю лучше сходить, что-то более сладкое или жирное в желудок положить, даже, не опасаясь партийного выговора, подержаться за чужую соблазнительную молодицу, да и запас кое-какой в своем амбаре иметь, чтобы не сидеть без хлеба, как ты, на мамином картофеле… У мамы только ее молоко хорошо, а остальные продукты надо самому добывать… Вот как я думаю! Ты хочешь общего солнца, коммунизма — поднимай его, а меня и обычное, извечное солнце пока что греет, не обижаюсь.
Марко сначала даже растерялся: не шутит ли по-дурному кладовщик. Но, когда взглянул на его заросшую морду, понял, что тому было не до шуток.
— Был ты сморчком и остался сморчком! Даже еще больше изнутри оброс щетиной, — Марко гневно махнул кулаком, а Шавула, сразу отозвался:
— Ну, и что из того? Все твои лекции до лампочки мне. Еще что-то скажешь?
— Скажу одно: как ты хитро ни крутишься, а твое темное солнце заходит уже!
— Ты мне не очень звони за упокой! — наконец обозлился весь вид Шавулы, обозлилась и его кабанистая фигура. — Вынес кости из войны, так береги их здесь, потому что, чего доброго, рассыплются, как драбиняк. И свою правду не очень навязывай другому. Мне пока что хватит и своей правды и кривды. Я не знаю, что тебе партия сегодня припишет, но верховодить и на трибунах, и в селе ты уже не будешь. Мы постелили тебе кривую дорожку по всем законным органам, а мало будет, еще достелем. Война учила тебя, но учила и нас, потому что жить хочет каждое создание.
— Угрожаешь?
— Нет, даже остерегаю тебя. Живи, если хочешь, если можешь и имеешь как, но не мешай и мне: Шавула тоже хочет жить, а не оглядываться. Можешь даже председательствовать, выскакивать в передовики, в сякое-такое начальство, в Герои, в портреты, но только в другом селе или районе! Понял, откуда ветер веет?
— Понял, откуда смрад идет! Ну, спасибо хоть за то, что полностью раскрыл свои карты, сам осветил себя. Это пригодится, — спокойно сказал Марко и ссунулся с телеги.
Кладовщик уже раскрыл рот, чтобы что-то ответить, но враз почему-то забеспокоился и повел головой к Марку, скосил глаза и даже руку приложил к заросшему шерстью уху: вторично сегодня он слышит подозрительный перезвон: когда Марко взбирался на телегу и когда покидал ее.
— Что у тебя, Марко, так позванивает?
Бессмертный оглянулся, вид кладовщика удивил его: обеспокоился щур с амбара!
— Не понял? — спросил едко из-за плеча.
— Таки нет, — тень прошла лицом Шавулы и будто подморозила его, даже в глазах застыли пленки неожиданного страха.
— Так разберешься, еще имеешь время. А перед своим богом заранее ставь свечку, чтобы спасал тебя.
Марко подыбал к райкому, а Шавула долго и пристально смотрел ему вслед, потом поправил налюшник[42] и полез рукой до растрепанного затылка.
«Неужели это ордена или медали так звенели. Что, если и в самом деле этот идейный чудачина заработал на войне не только костыли, но и иконостас? Тогда его труднее будет укусить даже из уголка. И надо ли было лезть в такой душевный разговор? Таки, кажется, зря начал загодя раскрывать свою масть. Теперь пойдет Марко идейным тузом — и сам пчелой станешь, которую перекусывают надвое. Эт, нет у тебя, Мирон, принципиальной выдержки, — тоже захотелось на свою голову полезть в ораторы».
Шавула в сердцах огрел кнутом по бугорчатым мышцам коней и в невеселых раздумьях поехал к чайной, где имел некоторый интерес к широкогрудой и бедристой буфетчице.
* * *
В приемной первого секретаря сидела темнобровая девушка с таким непроницательным видом, будто у нее где-то под парикмахерскими кудряшками стоял гриф «секретно». Но даже и ее, когда Марко назвал свою фамилию, на минутку проняло удивление, хотя она сразу же погасила его одним движением длинных русалочьих ресниц.
— Иван Артемович сказали, чтобы вы, когда приедете, сразу же шли на пленум, — вежливо, но вместе с тем и холодно встала со стула.
— На пленум? — неприятно удивился Марко и заглянул девушке в круглые глаза, где в потемневших разводьях серели крошки льда.
— Ну да. Он уже заканчивается — вы почему-то припозднились. Я проведу вас. Это на втором этаже. — Девушка старательно закрыла все ящики, подергала их за ручки, незаметно поправила пальцем брови и уверенно пошла впереди Марка, которого решение секретаря обеспокоило и нахмурило.